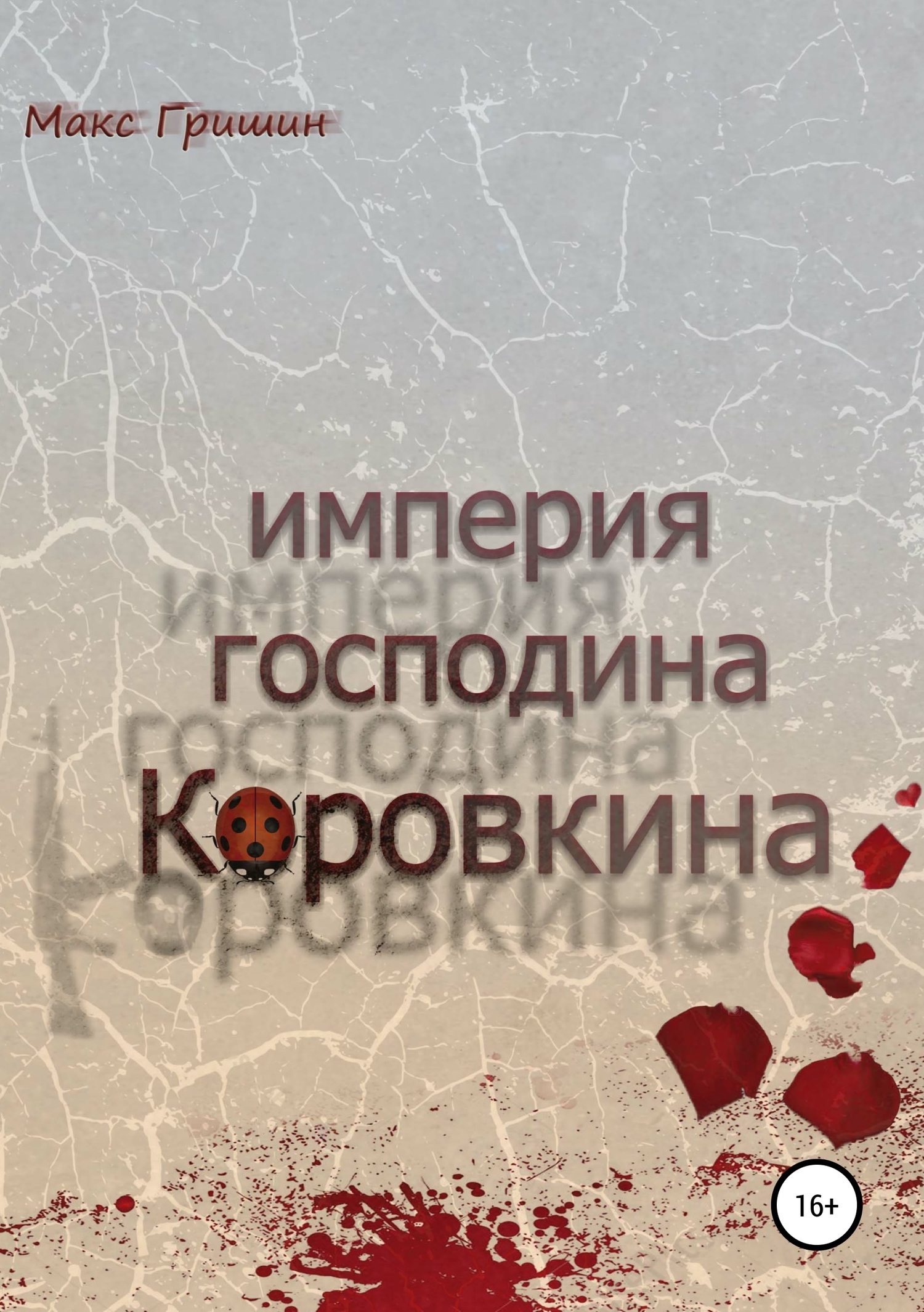всего.
Прошло много лет и детство его осталось далеко позади. Прожил ли он счастливую жизнь и был ли счастлив спустя все эти годы? Пожалуй, что прожил, и, пожалуй, что был. Даже в свои шестьдесят с лишним он чувствовал себя так, как будто ему было каких-то тридцать. Его мужественное, всегда чуть загорелое лицо, с отбеленными как январский снег зубами, его всегда идеально обточенные и обработанные ногти, копна густых темных волос, которые он начал подкрашиваться лишь несколько лет назад, его подтянутый плоский живот, который он, подходя иногда к зеркалу, не без усилий, конечно, и не без задержки дыхания, подработав контрастностью до того состояния, когда появлялись кубики, в очередной раз отправлял с комментарием в виде гантели и руки с напряженным бицепсом в Инстаграмм. Конечно, он не выглядел на тридцать. Да и на сорок, признаться, тоже не выглядел. Его взгляд, его поза, выражение лица выдавали в нем господина все-таки не самых юных лет. Но что поделать, он не мог обратить время вспять, да и мальчиком, при всем его статусе, смотреться ему тоже не очень-то и хотелось.
Несмотря на его возраст, его здоровью и форме могли позавидовать многие. На это он тратил немалую часть своего времени. Раз в неделю он совершал поездку на велосипеде, которую иногда заменял на пробежку по улицам и паркам утренней Барселоны, раз в два дня посещал зал, где жал на грудь шестьдесят килограммов (немного, конечно, но у него и не было планов на губернаторство в Калифорнии) и не переставал удивлять этих «мажоров» своей способностью подтягиваться. Сходу он мог сделать пятнадцать раз. За один заход! В теории, он мог бы и больше. Но как оказалось – только в теории. Однажды (к счастью, в зале в это время почти никого не было) он попытался проверить предел своего организма и шел уже на восемнадцатое подтягивание, не совсем, конечно, уже чистое, дрыгая при этом ногами, как пойманная за шею курица, кряхтя, морщась, силясь изо всей силы дотянуть свой подправленный пластическим хирургом подбородок к планке. Она была уже вот-вот совсем рядом, совсем чуть-чуть, последний рывок, последнее усилие и опять он, Санек, Саня, Санчоус (как называл он иногда самого себя) сломает все стереотипы, лишится оков, вырвется за пределы условностей этого мира, прорвет границы чего-то там, как говорилось в брошюре одного из элитных залов, которая попалась ему на глаза совсем недавно, но… увы… прорыв хоть и произошел, но совершенно не в том месте, где он его ожидал. «Э-э, полегче, батя», – проговорил ему вдруг организм диким гудением в животе на восемнадцатом разу, и как бы в подтверждение своих слов, он вдруг выкинул перед ним такую штуку, после которого он в спешном порядке, бочком, слегка нагнувшись и придерживая свои уже испорченные тренировочные штаны Bosco, был вынужден ретироваться в уборную, озираясь по сторонам и радуясь только одному – в столь ранний час в зале был лишь он и пара каких-то незнакомых ему залетных дрищей.
После того дня он не пытался уже ничего порвать и снова продолжил удивлять местных как дед, который делает пятнадцать, при этом он уже внимательнее прислушивался к своему организму, который иногда уже с тринадцатого раза начинал слегка стравливать газ в системе.
– Ну что ж, Саня, – философски говорил он себе, направляясь в тот день на своем Porsche Panamera в сторону дома, – возраст уже не тот, вот раньше бы…
Но это его «раньше бы» было не более чем оборотом речи в разговоре с самим собой. Раньше он, хоть и занимался боксом и борьбой, никогда не уделял здоровью столько внимания, сколько сейчас. Времена были такие, что здоровый образ жизни далеко на гарантировал тебе долголетие. Раньше он редко ходил в зал, курил как кочегар (курить он стал уже в конце восьмидесятых, ибо по-другому было уже нельзя), пил как черт, и в диете его не было соевого молока и капусты брокколи (он даже не знал, что это такое) до тех пор, пока ему не перевалило за сорок пять лет и перед ним не открылся совершенно иной мир.
«Ты становишься фитоняшкой» – смеясь, сказала ему как-то Кати, когда он, вернувшись с зала или пробежки, скромно положил себе в тарелку куриную грудку. В это время оба его пацана уминали за щеки жирные, обжаренные на открытом огне их служанкой, мексиканкой Эстелой, креветки. Что ж, обмен веществ молодых организмов это позволял, он же должен был уже о себе думать. «Ты же не хочешь быть замужем за старым уродом, – парировал он ей, отправляя себе в рот очередной кусочек какой-то невкусной, но полезной дряни, запивая это глотком дорогого сухого вина, – ради тебя я готов жертвовать собой».
Впрочем, никакой жертвы с его стороны здесь не было. Временами, уже без Кати, в компании своей большой семьи, особенно в России, он мог позволить себе и что-то посерьезней сухого вина и грудки с брокколи, но он никогда не позволял празднику затянуться долго, оканчивая все свои забавы в безопасное для здоровья и физической формы время. Однако считать его аскетом было бы неправильно. Себя он любил и любил сильно, но в нем это был гедонизм уже куда более высокого порядка.
Барселона. Ему нравилось жить именно здесь. Из всех городов, в которых он когда-либо был, а был он много где, он любил этот город больше всего. В ней не было столичной толкотни Мадрида, с его толпами туристов на узеньких улочках, миллиардами негров, снующих вокруг и пытающихся толкнуть тебе кучу какого-то не нужного тебе дешевого дерьма, не было здесь и шума Нью-Йорка с его сиренами полицейских машин и бесконечным количеством уличных попрошаек, не было здесь питерского холода, и жары Майами, не было московских пробок и вымерших вечерних улиц всегда дождливой Скандинавии. Здесь было тепло, но не жарко; тихо, но не безлюдно; красиво, но не помпезно. Он любил этот город в любое время года. Любил ходить по его улицам, любил ездить на велосипеде по его пригородам, любил носиться на водном мотоцикле вдоль прибрежной линии. Ему нравилось жить именно так. Он любил звук вылетающей пробки дорогого шампанского на фоне балеарского заката и его журчание в бокалах, смешанное с шумом волн и криком морских птиц. Любил видеть, как отражалось голубое небо в ее глазах, как аромат духов, всегда изящно подобранный ей самой (естественно, на его средства), смешиваясь с морским запахом, касался его ноздрей