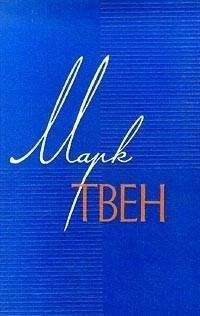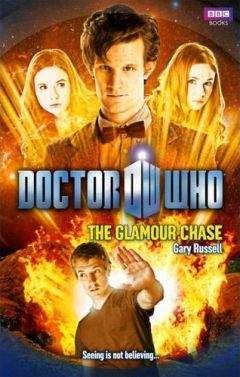Это последовательность Фибоначчи. Ее можно описать детальнее:
Ее можно объяснить также рекурсивно:
Это означает, что каждое последующее число является суммой двух предыдущих.
Я заставляю себя думать о цифрах, потому что, похоже, никто не понимает меня, когда я говорю человеческим языком. Это похоже на серию «Сумеречной зоны», когда слова внезапно изменили свой смысл: Я говорю «хватит», а они не унимаются; прошу отпустить меня, а они запирают меня в камере. Из этого я делаю два вывода:
1. Из меня делают преступника. Однако я не думаю, что мама позволила бы шутке затянуться так надолго, из чего заключаю:
2. Что бы я ни сказал, как бы ясно ни выразился, меня никто не понимает. А значит, я должен найти для общения способ получше.
Числа универсальны, язык чисел не знает географических и временных границ. Такое испытание: если кто-нибудь — хотя бы один человек — поймет меня, тогда есть надежда, что он поймет, что случилось в доме Джесс.
Можно наблюдать последовательность Фибоначчи на цветках артишока и на сосновой шишке. Можно воспользоваться этой последовательностью, чтобы объяснить, как размножаются кролики. Когда n стремится к бесконечности, отношение а(n) к а(n-1) приближается к числу Фи, золотому сечению, — 1,618033989, — которое использовалось при возведении Парфенона и проявляется в произведениях венгерского композитора Бартока и его французского коллеги Дебюсси.
Я меряю шагами камеру, и с каждым шагом в моей голове вспыхивает новое число Фибоначчи. Я все сужаю круги, пока не останавливаюсь посредине камеры и не начинаю все сначала.
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
Входит надзиратель с подносом. За ним идет медсестра.
— Привет, парень! — говорит он, размахивая передо мной рукой. — Скажи что-нибудь.
— Один, — отвечаю я.
— Что?
— Один.
— Что один?
— Два, — говорю я.
— Время ужинать! — объявляет надзиратель.
— Три.
— Будешь есть или опять выбрасывать?
— Пять.
— Сегодня пудинг, — продолжает он, снимая крышку с подноса.
— Восемь.
Надзиратель втягивает носом воздух.
— Н-да…
— Тринадцать.
Наконец он сдается.
— Я же говорил тебе. Он как с другой планеты.
— Двадцать один, — говорю я.
Медсестра пожимает плечами и поднимает шприц.
— «Очко», — отвечает она и погружает иглу мне в ягодицу, пока надзиратель держит, чтобы я не дергался.
Когда они уходят, я ложусь на пол и пальцем пишу в воздухе числа Фибоначчи. Продолжаю лежать, пока не начинает рябить в глазах, а палец не становится тяжелым, как гиря.
Последнее, что я помню, перед тем как исчезнуть: числа имеют смысл. О людях такого не скажешь.
В Вермонте контора, где работают адвокаты штата, называется не просто адвокатской конторой, а своим названием скорее напоминает нечто сошедшее со страниц романов Диккенса: «контора генерального защитника». Тем не менее, как во всех государственных конторах, там за гроши люди работают с утра до ночи. Именно поэтому, отправив Эмму Хант делать свое дело, я поспешил в свою контору-квартиру, чтобы заняться своим делом.
Тор прыгает от радости и бросается мне прямо на живот.
— Спасибо, приятель! — хриплю я, отталкивая пса.
Он голоден. Я кормлю его остатками макарон с сухим собачьим кормом, а сам отыскиваю в Интернете необходимую информацию и звоню.
Хотя уже семь вечера и рабочий день давно закончился, какая-то женщина снимает трубку.
— Здравствуйте! — говорю я. — Меня зовут Оливер Бонд. Я новый адвокат из Таунсенда.
— Мы уже закрыты…
— Знаю, но я друг Дженис Рот и пытаюсь ее разыскать.
— Она здесь больше не работает.
Я знаю об этом. Честно признаться, я также знаю, что Дженис Рот недавно вышла замуж за парня по имени Говард Вурц и они переехали в Техас, где Говарду предложили должность в НАСА. Лучшие друзья адвоката — записи из государственного архива.
— Вот черт! Досадно, правда? Я ее университетский приятель.
— Она вышла замуж, — сообщает женщина.
— Да? За Говарда, наверное?
— Вы знакомы?
— Нет, но я знаю, что она от него без ума, — отвечаю я. — Да что там… А вы тоже работаете адвокатом штата?
— К сожалению, да, — вздыхает она. — А вы занимаетесь частной практикой? Поверьте, вы ничего не потеряли.
— Нет? Зато у вас больше шансов попасть в рай! — засмеялся я. — Послушайте, у меня есть маленький вопросик. Я только начал практиковать криминальное право в Вермонте, до сих пор не знаю всех ходов и выходов.
Я только начал практиковать криминальное право. Точка. Но этого я говорить не стану.
— И в чем дело?
— Мой клиент — восемнадцатилетний подросток, он аутист. Во время предъявления обвинения в суде он вышел из себя. Сейчас он за решеткой, пока не решится вопрос о его дееспособности. Но тюрьмы ему не вынести. Он постоянно пытается себя изувечить. Нельзя ли каким-то образом ускорить отправление правосудия?
— Штат Вермонт, когда дело заходит о психическом состоянии заключенных, ведет себя по-свински. Раньше тех, чья дееспособность была под вопросом, помещали в изолятор местной больницы, но теперь финансирование урезали, поэтому большинство дел отправляют в Спрингфилд, поскольку там медицинское обслуживание лучше, — объясняет она. — Однажды у меня был клиент из больницы, чья дееспособность была под вопросом, так он любил лосниться, с головы до пят, — в первую же ночь обмазался куском масла, которое получил на ужин, а перед встречей со мной намазался дезодорантом.
— Свидание тет-а-тет?
— Да. Надзирателям было наплевать. Думаю, они полагали: худшее, что он может сделать, — чем-нибудь меня натереть. Как бы там ни было, я подала ходатайство о назначении залога, — продолжала адвокатесса. — Вам снова придется предстать перед судьей. Пригласите на заседание психиатра или другого защитника, чтобы не быть голословным. Но сделайте это не в присутствии клиента, если не хотите, чтобы судью привел в ярость спектакль в зале. Главная ваша забота — убедить судью, что ваш клиент не представляет на воле опасности. А если он будет как ненормальный бегать по залу суда, то испортит все дело.
«Ходатайство о залоге», — записываю я в блокнот.
— Спасибо, — говорю я. — Да, зрелище ужасное.
— Не за что. Алло, вам дать электронный адрес Дженис?
— Разумеется! — лгу я.
Она диктует адрес, а я делаю вид, что записываю.
Вешаю трубку, подхожу к холодильнику, достаю бутылочку воды и выливаю половину в миску Тора. Потом поднимаю бутылку и произношу тост:
— За Дженис и Говарда!
— Мистер Бонд, — говорит на следующий день судья Каттингс, — разве мы не будем ждать, пока по вашему делу примут решение о дееспособности?
— Ваша честь, — отвечаю я, — мы не можем ждать.
В зале суда только мы с судьей, Эмма, доктор Мурано и прокурор — женщина по имени Хелен Шарп. У нее очень короткие рыжие волосы и заостренные клыки, из-за чего мне на ум сразу приходят вампиры или питбули. Судья бросает на нее взгляд.
— Мисс Шарп? Что скажете?
— Я не знакома с этим делом, Ваша честь, — отвечает она. — Я только утром о нем узнала. Подсудимого обвиняют в убийстве, вы назначили экспертизу о степени дееспособности. Обвинение считает, что пока он должен оставаться под стражей.
— Со всем уважением, Ваша честь, — возражаю я, — полагаю, что суд должен выслушать мать моего подзащитного и его психиатра.
Судья жестом просит меня продолжать, и я приглашаю Эмму занять свидетельское место. У нее под глазами залегли тени, руки дрожат. Я вижу, как она то хватается за перила, то украдкой, чтобы не заметил судья, мнет краешек своей одежды.
— Пожалуйста, назовите свою фамилию и адрес, — говорю я.
— Эмма Хант. Таунсенд, Бердсай-лейн, 132.
— Джейкоб Хант, обвиняемый по этому делу, является вашим сыном?
— Да.
— Сколько Джейкобу лет?
Эмма откашливается.
— В декабре исполнилось восемнадцать.
— Где он живет?
— Со мной, в Таунсенде.
— Он ходит в школу? — продолжаю я задавать вопросы.
— Он ходит в местную школу, учится в выпускном классе.
Я смотрю прямо на Эмму.
— Миссис Хант, имеются ли какие-либо медицинские показания, которые заставляют вас беспокоиться о здоровье Джейкоба в тюрьме?
— Есть. Джейкобу поставили диагноз «синдром Аспергера». Это высокофункциональный аутизм.
— Как синдром Аспергера сказывается на поведении Джейкоба?