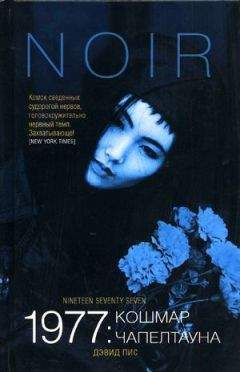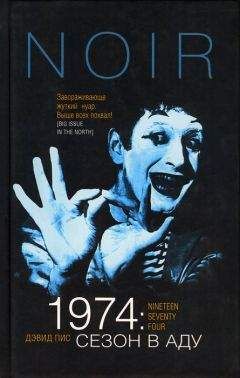И я лежу, уткнувшись зубами в матрас, и жду, пока Луиза, Радкин, его жена, пока один из них не даст мне фору, не даст мне то, что мне принадлежит:
Бобби.
Я лежу не шевелясь и жду. Потом Радкин говорит:
– Давай, Боб. Пойдем вниз.
Он наклоняется ко мне, чтобы поднять меня на ноги, и я чувствую его слабость, чувствую, что он сдается, я нащупываю ножку стула и бью его по лицу. Он отлетает к окну, воя, стекло сыпется, она смотрит, как он падает, а я поднимаюсь и забираю у нее Бобби. Я выхожу из спальни, отталкивая с дороги его жену, она скатывается вниз по лестнице, я – за ней, Луиза – за мной, крича, и визжа, и плача, у подножия лестницы я спотыкаюсь о тело его жены, Луиза падает на меня, Радкин на нее, кровь течет по его лицу, заливает ему глаза, слепит падлу, а я кричу, вою, рыдаю:
– Это мой сын!
Она кричит, визжит, плачет:
– Нет, нет, нет!
Бобби, бледный от шока, дрожит у меня на руках, мы лежим на жене Радкина, под двумя другими телами, я пытаюсь высвободиться, но тут Радкин то ли бьет, то ли пинает меня по уху со всей, бля, силы, и я падаю навзничь, Бобби нет, она оттаскивает его от меня, Радкин прижимает меня к полу, я кричу, визжу, плачу:
– Ты не имеешь права! Это мой сын!
Она пятится в гостиную, придерживая головку Бобби, уткнувшегося лицом в ее волосы. Она говорит:
– Нет. Ты ему – не отец.
Тишина.
Такая тишина, та самая тишина, та долгая, долгая проклятая тишина. Наконец она снова говорит:
– Ты ему – не отец.
Я пытаюсь встать, сбросить с себя ногу Радкина, как будто если я встану, то смогу понять, что за херню она несет. В то же время жена Радкина повторяет как заведенная:
– Что? Что ты имеешь в виду?
А он лежит, с ног до головы в крови, поднимает руки, умоляет:
– Не надо. Ради Христа, не надо.
– Но он должен знать, мать его.
– Нет, не должен. Не сейчас.
– Но он трахал эту проститутку, эту мертвую блядь, эту мертвую беременную суку.
– Луиза…
– И то, что она сдохла, еще ничего не значит, мать ее. Она была беременна его ребенком.
Я поднимаюсь на колени, тянусь к ним, тянусь к Бобби, к моему Бобби.
– Отойди от меня!
Радкин кричит:
– Луиза…
И тут его жена подходит к нему и бьет его по лицу. Она стоит возле него и смотрит, просто смотрит на него, потом плюет ему в лицо и выходит из дома.
– Антея! – кричитон. – Тыне можешь идти на улицу в таком виде.
Я пытаюсь встать, но он все еще держит меня, крича вслед жене:
– Антея!
Я тянусь к Бобби, к его затылку, к моему Бобби.
– Отвали! – говорит она. – Джон, убери его отсюда!
Но он не знает, что делать, не знает, то ли отпустить жену, то ли меня, и он слабнет, а у меня появляются силы, я вижу Бобби на другом конце гостиной, в нескольких метрах от меня, и я иду туда, бью ее по лживой башке, снова и снова, пока она не отпускает его, не отдает его мне, не отдает мне моего Бобби, Радкин натыкается на мой локоть, я держу одной рукой Бобби, другой – Радкина за волосы, я толкаю его на мраморный камин, он теряет равновесие, падает на Луизу, они валятся на пол, а мы с Бобби выбегаем из комнаты в коридор, из дома – на улицу, по подъездной аллее, Бобби плачет и зовет маму, я говорю ему, что все в порядке, все будет хорошо, говорю ему, чтобы он перестал плакать, что мама и папа просто пошутили, но я все время слышу их позади, слышу их шаги, слышу ее голос:
– Нет, Джон! Бобби! Осторожно!
И вдруг я чувствую, как моя спина взрывается, мне кажется, что ее больше нет, я падаю на колени и стараюсь не выпустить из рук Бобби, не выпустить Бобби, не выпустить Бобби, не выпустить Бобби, не выпустить Бобби.
– Нет! Ты его убьешь!
Я лежу лицом вниз на дорожке, ведущей к его дому. Бобби нет. Я лежу лицом вниз на дорожке, ведущей к его дому. Они бегут мимо меня к машине. Он швыряет крикетную биту на асфальт, рядом с моей головой. Она говорит:
– Вот теперь, Боб, мы квиты.
Они исчезают, все становится белым, затем серым и, наконец, черным.
* * *
Звонок в студию: Вот вы открываете газету – и что вы видите?
Джон Шарк: Не знаю, Боб. А что я там вижу?
Слушатель: (читает) «От побоев погибает дельно шесть младенцев, получают травмы – тысячи». На следующей странице: «Дети Северной Англии приветствуют Королеву». Дальше: «Каждый месяц по собственному желанию увольняются 74 полш1, ейских. Количество безработных увеличилось на сто тысяч человек. Изнасилования, убийства, Потрошитель…»
Джон Шарк: Так что вы хотите этим сказать, Боб?
Слушатель: Каллахан[34] же сам сказал – либо управляй страной, либо катись к чертовой матери.
Передача Джона ШаркаРадио ЛидсПятница, 17 июня 1977 года
Я смотрю на часы – семь минут восьмого.
Я поднимаюсь в старом лифте, вижу, как мимо проплывают этажи.
Я выхожу из лифта на лестничную площадку.
Там стоит маленький мальчик в голубой пижаме и ждет.
Он берет меня за руку и ведет по коридору – вытертый ковер, обшарпанные стены, вонь.
Мы подходим к двери и останавливаемся.
Я кладу пальцы на ручку двери и поворачиваю ее.
Дверь не заперта.
Комната номер 77.
Я проснулся на полу. Кошмарная черная тяжкая боль медленно наполнила мой череп.
Я приложил руку к голове и нащупал высохшую, запекшуюся кровь.
Я поднял голову. Комната была залита ярким светом.
Утренним светом, утренним светом с ярмарочной площади, с площади, где от спин пони и лошадей поднимался пар.
Я сел в лучах этого утреннего света, сел на постели из обрывков бумаги и разбитой мебели и стал собирать фотографии и записи, складывать их по порядку.
Эдди, Эдди, Эдди – везде Эдди, черт его побери.
Но вся королевская конница, вся королевская рать не могут Эдди, нашего Эдди, Эдди не могут собрать.
И бедную Джекки, бедную Джекки не могут собрать.
Я попытался встать – меня затошнило, я подтянулся к раковине и сплюнул.
Я выпрямился, открыл кран и умылся холодной серой водой.
Я увидел в зеркале его отражение – свое отражение.
Руки и ноги – из соломы, воля – из прутьев, растоптанных под копытами, под лошадиными копытами, под копытами китайских лошадей.
Я посмотрел на часы.
Было начало восьмого.
Семь минут восьмого.
Я сидел в машине на стоянке у мотеля «Редбек», тер переносицу и кашлял.
Я включил зажигание, выключил радио и выехал на дорогу.
Я въехал в Уэйкфилд мимо лошадей и пони на Хит Коммон, мимо черных куч, оставшихся на месте костров, через Оссетт и Дюйсберри, мимо черного шлака, оставшегося на месте полей, мимо газетного магазинчика «РД-Ньюс», из Бэтли – в Брэдфорд.
Я остановился на ее улице и поставил машину рядом с высоким дубом, нарядившимся в свою самую красивую летнюю листву.
Зеленое.
Я постучал еще раз.
В подъезде было холодно – туда не проникали солнечные лучи. В окна стучались ветви деревьев.
Я положил пальцы на ручку двери и повернул ее.
Я вошел.
В квартире было темно и тихо. Дома – никого.
Я стоял в ее коридоре, слушал, думал о квартире над газетным магазинчиком, о тех местах, где мы прятались ото всех.
Я вошел в гостиную, в комнату, где мы познакомились. Оранжевые занавески были задвинуты. Я сел на стул, на котором я обычно сидел, и решил ждать, пока она не придет.
Кремовая блузка и брюки в тон – в тот первый раз. Голые грязные коленки в синяках – в тот последний раз.
Через десять минут я встал, пошел на кухню и поставил чайник.
Когда вода закипела, я налил ее в чашку и вернулся в гостиную.
Я сидел в темноте и ждал Ка Су Пен, размышляя о том, как я сюда попал, перебирая их всех по порядку:
Мэри Энн Николе, место убийства – Бакс Роу, август 1888 года.
Энни Чэпмен, место убийства – Хэнберри-стрит, сентябрь 1888 года.
Элизабет Страйд, место убийства-Бернерс-стрит, сентябрь 1888 года.
Кэтрин Эддоус, место убийства – Майтр Сквер, сентябрь 1888 года.
Мэри Джейн Келли, место убийства – Миллере Корт, ноябрь 1888 года.
Пять женщин.
Пять убийств.
Я почувствовал прилив, Кровавый Прилив, подступающий к моим ботинкам и носкам, ползущий вверх по ногам:
«А как же наш Юбилей?»
Прилив шел, Кровавый Прилив, подступающий к моим ботинкам и носкам, ползущий вверх по ногам:
Кэрол Уильямс, место убийства – Оссетт, январь 1975 года.
Одна женщина.
Одно убийство.
Я чувствовал, как прилив поднимается, Кровавые Реки Вавилона, реки крови, проливаемые каждой женщиной за всю ее жизнь, не забудьте зонты, обещают кровавый дождь, лужи крови, с неба льется красная, белая и синяя вода:
Джойс Джобсон, место нападения – Галифакс, июль 1974 года.