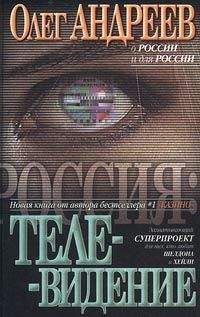И все-таки Леонид сказал то, что сказал. Потому что он готов не замечать гуровинских гадостей, но врать больше не будет — даже на десять процентов, даже на один, даже на ноль целых и хрен десятых процента. Он не будет больше врать никогда и никому! И даже такой ценой! Потому что все! Он теперь, вот только теперь выдавил из себя последнюю каплю прежнего рабства.
Казалось, зал в напряженной тишине читал его мысли. И, похоже, коллеги его поняли.
— Прошу голосовать, кто за то, чтобы сместить с поста генерального директора “Дайвер-ТВ” Якова Ивановича Гуровина, прошу поднять руки.
Леонид закрыл глаза.
Потом заставил себя посмотреть в зал. Руки поднялись, но не все.
— Надо считать, — заметил кто-то.
Тут же вскочила секретарша Люба и стала быстро пересчитывать поднятые руки.
Дюков пощипывал бородку, губы его шевелились, он тоже считал.
— Семьдесят два, — сказала Люба.
— Прошу опустить. Кто против?
Снова поднялись руки. И Крахмальников подумал, что их было куда меньше.
Люба снова принялась считать. И это длилось бесконечно долго.
— Семьдесят два, — повторила Люба растерянно.
— Я не голосовал, — произнес Крахмальников. — Я против.
И поднял руку.
Дюков встал и вышел из зала.
Команда, готовившая выпуск новостей, который выходит в эфир в полночь, на собрании не присутствовала и не подозревала, какие страсти там кипели.
Балашов и Захаров составили план-ураган, включающий в себя дикторский текст, кусок интервью с приятелем Альберта из МУРа, бой в стоматологическом кабинете, коротенькие комментарии. Все тексты написали сами, не доверяя Савковой. Специально вызванный гример, прославившийся тем, что может неузнаваемо обезобразить самое красивое лицо, “привел в порядок” Антона: подчернил синяк под глазом, пустил пару шрамов по щеке. Лицо журналиста приняло оттенок мужественности. Он стал похож на человека, единолично вступившего в схватку с бандитами. В принципе почти так оно и было, если, конечно, не считать некоторых нюансов.
Червинский решил воплотить свою давнюю задумку — снять весь выпуск ручной, движущейся камерой. Ведущие должны переходить от монитора к интервьюируемым, к ним будут подбегать редакторы, подносить тексты — все в динамике.
Игорь совершенно замучил осветителей, заставляя их снова и снова включать и выключать приборы. Загонял компьютерщиков, каждый раз отвергая предложенный шрифт для титров. Иван Афанасьевич как оператор-постановщик распорядился принести не две, как обычно, а четыре камеры. Для острастки дали полный разгон азээшникам — чтобы не напутали с записью, как это уже не раз случалось.
В одиннадцать ровно Червинский решил провести Тракт — полный прогон. Пожалуй, сегодня впервые в жизни Игорь подошел к делу так, как положено.
— Может, это моя лебединая песня. Уйду вот завтра от вас, будете вспоминать.
Он нервничал. Его жутко злил Балашов, обычно уверенный в себе и даже развязный, а сейчас, перед камерой, скованный и напряженный. Будто вчера только на телевидение пришел. Конечно, ему больно говорить, все-таки вывихнутая челюсть и выбитые зубы не шутка, но коль уж напросился в эфир, то и веди себя соответственно. Делает какие-то несуразные движения руками, поеживается, почесывается. Мрак. Читает с суфлера. Хоть бы шуточку какую запустил.
— A3, сюжет номер один, — сказал Червинский ассистенту.
— A3, сюжет первый, — передал тот в аппаратную записи.
На мониторе под диким ракурсом появилась комната. На переднем плане крупно мелькнуло лицо элегантного господина. Алик. На заднем — испуганное лицо Антона, рот которого закрыт волосатой рукой стоящего за его спиной бритоголового качка.
— A3, заставка, — распорядился Червинский. Пошли позывные и заставка вечерних новостей.
— A3, сюжет номер два, — скомандовал режиссер.
Перед камерой появился Захаров. Червинскому он тоже не понравился — раздражающе развязен. И говорит не по тексту, несет отсебятину.
— Стоп. Тракт закончен. Приготовились к эфиру. В студию вошел Крахмальников.
— Игорь, — остановил он режиссера, — погодите. У вас питерские репортажи где стоят? — — Питерских вообще нет, — пожал плечами Червинский. — Мы свежак гоним.
— Булгакова и этого, как его, Учителя?
— Ну да…
— Нет, первыми ставим репортажи из Питера. А эти все криминалы — в конце, по полминуты.
— Как? — опешил Игорь. Балашов и Захаров остолбенели.
— Почему, Леонид Александрович?
— Потому что там люди погибли, — сказал он. — Потому что трагедия — там. А здесь суета.
Услышав в коридоре шаги, Любочка выглянула из двери. Мимо приемной проходил Лобиков, а с ним — какой-то незнакомый мужчина.
— Добрый вечер, — вежливо поздоровалась Люба.
— Привет. Что ты так поздно сидишь? — поинтересовался журналист.
— Протоколы собрания нужно подготовить. А вы чего задержались?
— Тоже дела. — Отправив девушке воздушный поцелуй. Лобиков пошел дальше, а мужчина спросил, где можно найти Аллу Макарову.
Люба подозрительно посмотрела на незнакомца. После того что сегодня узнала о Макаровой, она совершенно перестала ее уважать.
— Не знаю, — пожала она плечами. — Ушла уже, наверное. Посмотрите в информационной редакции. Может, они до сих пор отношения выясняют.
И Люба захлопнула дверь перед самым носом мужчины.
В редакции никого не было, свет не горел. Не зажигая электричества, Володя обессиленно опустился на стул и уперся локтями в столешницу. Все, он больше отсюда никуда не пойдет. Хоть всю ночь тут просидит. Вообще-то Алла работала в рекламном отделе, — значит, ждать ее здесь бесполезно, что ей тут делать? Ну и пусть. Он все равно сейчас на нее даже смотреть не смог бы.
Он поудобнее улегся на стол и закрыл глаза.
Рука уперлась в банку пива.
Володя повертел ее в руках, дернул колечко на крышке и припал губами…
Его труп нашли только утром. Вскрытие показало — отравился.
Алла так и не узнала, что перед смертью муж простил ее.
В реанимационной палате кардиоцентра кривая на кардиомониторе возле больного Гуровина Я. И, резко подскочила вверх, потом рванула вниз, и ритм ее движения упорядочился.
Врач вошел в реанимационную палату, склонился над Яковом Ивановичем.
— Ну? — профессионально ободряюще спросил он. — Полегчало?
Гуровин тяжело дышал, но был уже в сознании.
— Доктор… — Каждое слово давалось ему с трудом. — Я.., умру?
— Все мы смертны, — усмехнулся врач. — Но вам до ста лет, пожалуй, это не грозит.
Алина тронула босой ногой холодную морскую волну.
— Хорошо, — сказала она.
Саша бросил плоский камешек, но “блинчиков” не получилось, море было неспокойное.
— Гляди, какая красота! — Алина махнула рукой на выплывающее из моря огромное бордовое солнце. — Давно ты любовался рассветом, да еще на море?
— Никогда.
— Так смотри.
— Я и смотрю, — ответил Казанцев.
Он не отводил взгляда от пламенеющего солнца, пока из глаз не покатились слезы.
Через полгода по дороге на студию Крахмальников увидел бредущую по тротуару девочку-девушку с огромным китайским баулом — в таких торговки носят на рынок свой товар. Чем-то ему фигурка девушки показалась удивительно знакомой. Он тут же вспомнил свою литературную муку — так и не увиденное лицо черной девочки — и почему-то точно понял: это она.
Он свернул к тротуару с отчетливым сумасшедшим желанием остановить девушку, посмотреть ей в лицо. Но — повернул обратно. Он его знал прекрасно. Это была Алла.
Господи, грустно подумал Крахмальников, неужели все так просто и мрачно — загадок нет, а есть бывшая любовница, которая теперь торгует на рынке. Неужели так у всех, неужели мы не можем жить крайностями и все валится в серединку, в серость, в обыденность?
Он подумал о полугодовой давности питерской катастрофе — кто о ней сейчас вспоминает? Никто.
Никто уже не помнит об убийстве Тимура Пинчевского, а ведь какое громкое было убийство.
Все, что казалось таким важным, теперь было еще одной мелочью жизни.
Страшно.
Валентина перевернула последнюю страницу. Прикусила нижнюю губу, устремив глаза в потолок.
Крахмальников не выдержал, сказал, стараясь, чтобы звучало полегче:
— Ну как?
Жена с минуту посидела неподвижно, потом двинула рукопись по столу:
— Мне не понравилось.
— Почему? — слишком спокойно спросил Крахмальников.
— Это долгий разговор…
— Я не тороплюсь.
— Я понимаю, тебе сейчас важно… Нет, вообще-то и стиль, и диалоги, и сюжет… Понимаешь, Леня, о том, что слишком хорошо знаешь, наверное, нельзя писать.
— Почему? — удивился Крахмальников.
— Получается сплошная специфика. Слишком много частностей. Все дробится, разваливается.