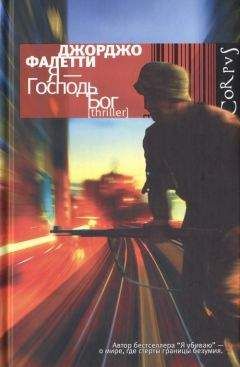Джордан облегченно вздохнул и спросил, стараясь не выдать своего нетерпения:
– К ней можно?
– Пока нет. Она еще в реанимации, и думаю, мы ее подержим под легкой анестезией до завтрашнего утра.
После этого хирург совсем отказался от специальной лексики и заговорил как человек, пытающийся ободрить другого человека, хотя Джордан с первого взгляда на него почувствовал прилив уверенности.
– Поверьте на слово, вы можете спокойно ехать домой. Ваша подруга в надежных руках.
Джордан закивал, давая понять, что полностью доверяет доктору Леко. Он протянул ему руку, и хирург ее пожал.
– Спасибо, – сказал он просто.
– Моя работа, – отозвался тот с такой же простотой.
Доктор заложил руки за спину и удалился, а Джордан, взяв шлем с соседнего стула и поглядев на свой, где только что сидел, как на горячих угольях, двинулся к выходу, с неизменной любезностью раздвинувшему перед ним стеклянные створки. На улице его ожидало второе за сегодняшний день чудо: мотоцикл был на месте. Он воспринял это как хорошее напутствие и в свете добрых вестей, сообщенных доктором Леко, позволил себе мысленный иронический комментарий.
Надевая шлем и пряча улыбку в уголках рта, он спросил себя, в какое отделение врачи поместят Лизу – в женское или в мужское.
Проснувшись, Морин почувствовала, что устала еще больше, чем когда ложилась в постель. На ночь она приняла таблетку снотворного, но спала все равно беспокойно, видела тревожные сны и даже не могла утешиться уверенностью, что сны эти полностью принадлежат ей.
Я уже не хозяйка своих снов.
Она взглянула на электронные часы, стоявшие на серой мраморной столешнице рядом с кроватью. Красные цифры показывали, что скоро полдень.
Морин откинула смятую простыню, встала с постели, взяла темные очки и надела их, прежде чем раздвинуть тяжелые темные шторы. Раздернула она и легкие занавески, впуская в комнату солнце. Под ней разноцветной мозаикой стоявших в пробке машин расстилалась Парк-авеню. Морин вдруг позавидовала всем этим людям, что передвигаются по городу на машинах или пешком и видят перед собой мир таким, какой он есть, без тайных посланий из темного и непонятного небытия.
Обнаружив, что фрагменты, временами возникающие у нее в мозгу, взяты из жизни Джеральда Марсалиса, она сочла своим долгом посетить ретроспективную выставку работ Джерри Хо, устроенную в галерее Сохо. В одиночестве она ходила по залам, странно спокойная, не испытывая чувства deja vu, но зная, что вот-вот последует новая серия…
…чего? Как назвать то, что со мной происходит?
Но ничего не произошло. Правда, после долгого разглядывания всех этих цветовых пятен она почувствовала, что ей как-то не по себе. За этими полотнами стояли ночные кошмары, тяжелый дурман, крики боли, истерзанный мозг и страх человека, попавшего в стаю пираний.
Джерри Хо, как и Коннор Слейв, ушел из жизни до срока, возможно, в расцвете своего творчества, ушел, убитый человеческим безумием. Хотя Коннор был не только художником, но и человеком, а Джеральд, судя по всему, отказался от этой роли, быть может, даже умер задолго до своей физической смерти от руки другого парня, которому теперь грозит та же участь.
Морин высунулась из окна, но легкая занавеска, подхваченная ветром, вновь стала дымчатой преградой между нею и внешним миром. Она отошла к креслу, стала надевать спортивные брюки из микрофибры; в это время где-то в недрах дома зазвонил телефон.
Чтобы дочь не беспокоили звонки, Мэри Энн Левалье распорядилась отключить звонок в ее комнате. Немного погодя дверь бесшумно отворилась, и в комнату просунулось смуглое лицо Эстреллы.
– Ах, синьорита, а я думала, вы еще спите! Вам звонят из Италии.
Морин подошла к ночному столику в стиле ампир и спросила себя, кто бы это мог быть. В Италии сейчас шесть утра, и не так уж много народу может встать в этот час, чтобы позвонить ей. С некоторым сомнением она поднесла трубку к уху.
– Да?
И очень удивилась, услышав голос друга и адвоката Франко Роберто.
– Как поживает самый красивый комиссар итальянской полиции?
Морин слишком давно с ним знакома, чтобы не знать, как он деликатен и как осторожно всегда подбирает слова. Сейчас этот легкомысленный тон – вовсе не бестактность, а, наоборот, забота о ней.
– Привет, Франко. Неужели в такую рань ты уже на работе?
– В такую рань я еще на работе. Всю ночь сидел над бумагами, у меня сегодня слушание дела. Мужчина обязан зарабатывать на кусок хлеба.
– И даже с маслом, если вспомнить твои гонорары.
Морин невольно поддалась долетевшему из дальней дали оптимизму.
– Какой гнусный поклеп! Но не будем о прозе жизни. Я звонил твоему отцу, и он меня обрадовал. Говорит, операция прошла на редкость удачно.
Даже если б я тебе сказала, ты бы все равно не понял, на какую редкость.
Но комментариев от нее не потребовалось. Франко уже перешел к истинной причине своего звонка:
– А у меня тоже добрые вести. Суд по делу Авенира Галани будет чистой формальностью. После случившегося с вами всю полицию подняли на ноги. Они миллиметр за миллиметром прочесали лес Манциана и в стволе дерева нашли пулю, полностью идентичную той, которой был застрелен Коннор. Это на сто процентов подтверждает твою версию и означает, что я одним выстрелом убью двух зайцев.
– А именно?
– Докажу твою невиновность и получу за труды чек с полицейской печатью. Может быть, даже не буду его обналичивать, а повешу в рамке над столом наподобие ex voto.[12]
Морин промолчала.
– Ты что, не рада?
– Да нет, рада, конечно.
По идее, надо радоваться. Еще недавно после такого известия она бы первым самолетом полетела к Коннору, бросилась ему на шею и поделилась своей радостью. А теперь как ей радоваться, если эта радость добыта ценой его гибели?
Франко, видимо, угадал ее мысли, потому что голос его стал еще более проникновенным и успокаивающим.
– Ну вот. Теперь ты знаешь, что тебя ожидает. Я не настолько глуп, чтобы думать, будто все пойдет по-прежнему, и не стану уверять в этом тебя. Но уж прости мне такой неоригинальный совет: доверься времени и людям, которые тебя любят. Это не вернет прошлого, но поможет его пережить. Если буду нужен – я всегда здесь.
– Я знаю, Франко, и очень тебе благодарна. Желаю тебе успеха на твоем слушании.
Морин повесила трубку, обдумывая слова Франко. Он, в общем-то, прав. Она молода.
Некоторые говорят, что красива.
А некоторые даже считают, что умна.
Но только один человек дал ей почувствовать себя самой красивой, самой умной и самой желанной на свете.
Теперь его нет, и она просто одинока и вынуждена прятаться от мира.
Мир не любит тех, кто выплескивает наружу свои страдания. Все тешат себя иллюзией, что зла нет, и не желают, чтобы им доказывали обратное.
Морин решила, что чашка кофе не сделает день горше, чем он есть. Разве что чуть пожарче. Эстрелла с готовностью кинется на кухню, если ее попросить, но Морин предпочла сварить кофе сама.
Она вышла из спальни и отправилась бродить по дому. Квартира у матери большая, четыреста квадратных метров, четко разделенная на дневную и ночную зоны; пройдя под широкой аркой, попадаешь в гостиную, а из нее ведет коридор на кухню. За годы, прожитые в Италии, мать обрела европейский вкус, потому в обстановке квартиры современный дизайн смешивается с антикварной испанской и французской мебелью, отлично сочетающейся с тяжелыми шторами и пастельными цветами стен.
Здесь, в полном соответствии с характером Мэри Энн Левалье, нет ничего случайного.
Шлепая босыми ногами по коридору, Морин услышала голоса, доносившиеся из другой половины дома. Среди них выделялся голос матери. Это показалось ей странным, потому что в полдень мать обычно у себя в конторе, в отделанном деревом офисе, занимающем полэтажа в небоскребе Трамп-Тауэр.
Появившись в проеме арки, она увидела мать в обществе двоих мужчин.
Один высокий, мускулистый, с коротким ежиком волос и мощной шеей, для которой ворот рубашки тесен, поэтому верхняя пуговица расстегнута и галстука нет.
Второй пониже ростом, лет шестидесяти, гораздо более субтильный и застегнутый на все пуговицы безупречно пошитой тройки. Седоватые волосы зачесаны назад, глаза слегка удлиненные, азиатские, хотя и с примесью других рас. Цвет его лица напомнил Морин статуи в музее восковых фигур мадам Тюссо.
Голос, низкий и глубокий, которым он говорил что-то матери, совсем не вязался с тщедушностью общего облика.
– Мадам Левалье, я крайне признателен, что вы приняли нас дома, а не в офисе. Мне хотелось обсудить этот вопрос в неофициальной, так сказать, обстановке.