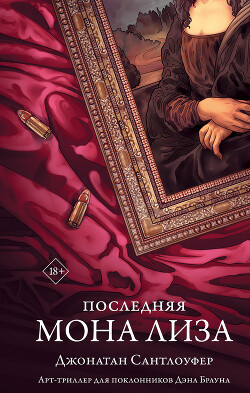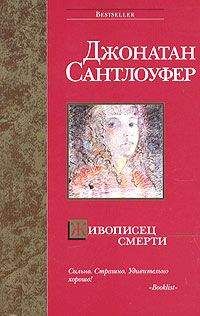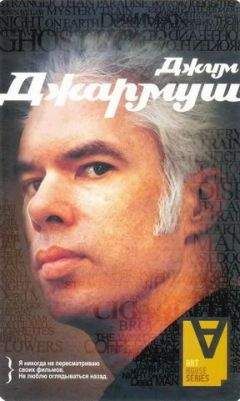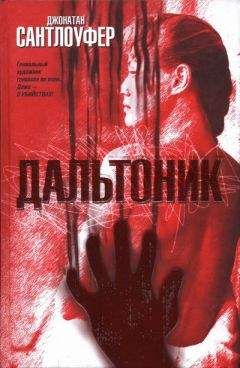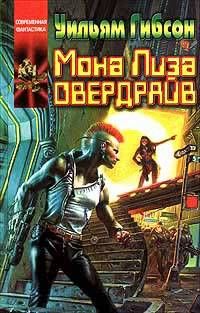– Господи, это он. Как вы это сделали?
– Это вы сделали, – ответил Родригес. – Я лишь следовал вашим указаниям.
– Ну, я не знаю. – Я уставился на рисунок с чувством выполненного долга, к которому примешивался холодок узнавания.
Инспектор Кабеналь изучила эскиз и сказала, что Интерпол прогонит его через свои идентификационные базы данных и отправит по факсу во все полицейские участки Парижа.
– По-моему, не исключено, что он убил еще несколько человек, – предположил я, вспомнив молодого монаха и Кватрокки.
– Вам нужно написать заявление обо всем, что произошло. Все, что вы помните, – сказала Кабеналь.
– Я и так уже ответил на все ваши вопросы.
– Не на все. – Она подкрепила свое возражение новым вопросом. – Что вы предпочитаете: ноутбук или ручку и бумагу?
Я выбрал ноутбук и долго печатал. Подробно описал, как получил электронное письмо Кватрокки и приехал во Францию, как впервые пришел в библиотеку, как волновался, обнаружив дневник и начал его читать. Написал о предупреждении брата Франческо – Ha un amico a Firenze? [82] – и о своем подозрении, что это могло стать причиной его смерти. Я написал о своих поисках книготорговцев в Париже и Флоренции и их подозрительных смертях. Написал об Этьене Шодроне и его девушке, и их окровавленные лица и мертвые тела всплывали в моем сознании. Не забыл я и о недостающих страницах за картиной Вермеера, и об инициалах Шодрона на подделках. Описывая все это – каждую деталь, каждое событие, произошедшее с тех пор, как я выехал из дома – я думал: вот что вышло из той загадки, о которой я надеялся поведать всему миру. Я-то собирался написать об открытии, а не о смертях. Вместо этого получился полицейский отчет, который никто, кроме нескольких сотрудников Интерпола, никогда не прочитает.
Умолчал я только об Аликс. Как будто ее и вовсе не было.
А теперь у меня и вовсе ничего не осталось – из того, что я надеялся открыть, чем мог бы распорядиться. Теперь все мои мечты казались прихотью, причем смертельно опасной прихотью.
Закончив, я просмотрел написанное. Оно напоминало синопсис книги, которую мне не суждено было написать.
Взглянув еще раз на рисунок художника-криминалиста, я увидел человека, нападавшего на меня в гостиной Этьена Шодрона, на промозглой парижской улице и, наконец, в парке; я вспомнил его нож, направленный на Смита – кошмарный фильм ужасов, кадры из которого навсегда остались в моем сознании вместе с мыслью: никаких сомнений, что этот тип снова придет за мной.
Кабеналь читала мое заявление, время от времени поглядывая на меня.
Затем, когда заявление было распечатано, и я его подписал, она протянула мне мой мобильный телефон и сказала, что я могу идти.
«Куда идти?» – подумал я. Я был не готов вернуться домой, вернуться в колледж на свои «часы», вернуться к поискам галереи – и оставить так много вопросов без ответа, оставить Смита…
На выходе я остановился у поста дежурного, жандарма в форме, с озабоченным видом сидевшего за столом и постоянно отвечавшего на телефонные звонки. Очевидно, утро в Париже выдалось напряженным для правоохранителей. Мобилизовав все свои знания французского, я выразил ему сочувствие, пошучивал и всячески прикидывался «своим» в перерывах между звонками, а потом непринужденно задал вопрос, куда они отвезли моего «напарника» Джона Смита. Я понадеялся на то, что он слишком занят и не спросит у меня удостоверение; так оно и вышло. Ответив на очередной звонок, он перелистал кучу бумаг у себя на столе и сказал: «Больница Сен-Жак» – и снова схватился за телефон.
Над Парижем сгущались темные тучи, и я торопливо завернул за угол, сел на первую попавшуюся скамейку и позвонил. «Я ищу пациента, американца Джона Смита». Меня заставили так долго ждать, что я даже вздрогнул, когда в телефоне вновь раздался человеческий голос. Женщина спросила, не родственник ли я, и после того, как я замешкался с ответом, сказала, что не может дать мне никакой информации.
– Я всего лишь хочу знать, стало ли ему лучше?
– Все, что я могу вам сообщить: мистера Смита больше нет в реанимации, – ответила она после долгой паузы.
– Так ему лучше?
– Извините, больше я ничего не могу вам сообщить, – сказала она и повесила трубку.
Набрав номер Кабеналь, я попал на автоответчик голосовой почты. Я оставил сообщение с вопросом о состоянии Смита. Я напомнил ей о нашем договоре, что она даст мне знать, если Смит выживет. Затем я двадцать минут сидел на скамейке, дожидаясь, когда она мне перезвонит, потом еще два часа бродил по парижским улицам, но телефон мой так и не зазвонил, и я понимал, что это значит.
Я не имел представления, где буду спать в эту ночь, но точно знал, чего я хочу, и что найти это будет нетрудно.
78
Сколько баров я тогда обошел?
Помню первый, бар гостиницы в квартале Сен-Жермен-де-Пре, не совсем пятизвездочной, там я подцепил какую-то замужнюю дамочку, или это она меня подцепила, мужа она называла «бомж». На что я ответил, что я тоже бомж, и мы оба хохотали, как будто это было самая смешная шутка на свете. Мы чередовали поцелуи с порциями виски – не самая эстетичная картина. Но в какой-то момент я, очевидно, свалил, потому что оказался в другом баре, на два разряда ниже первого. После трех или четырех стаканов меня оттуда вывел бармен. А я ругался на него: Connard! – T’es un salaud! – Va te faire foutre… [83] – не самое лучшее мое публичное выступление, хотя в тот момент я очень гордился тем, что помню эти французские ругательства. С некоторым опозданием до меня дошло, что третье место, куда я забрел – это гей-бар, и это могло мне дорого обойтись: вспоминается только, что какой-то парень в кожаном костюме облизывал мне лицо. Дальше уже почти ничего не помню. Очевидно, меня вырвало, хотя и это событие не сохранилось в памяти; но запах рвоты долго меня преследовал.
Меня разбудил жандарм, не очень ласково толкнув сапогом в ребра. Я с трудом встал, голова раскалывалась, тело налилось свинцом, я чувствовал тошноту и отвращение к себе самому.
Название отеля, в котором я остановился, напрочь вылетело из головы, и анонимная ключ-карта никак не помогла. Я попытался зарегистрироваться в небольшом бутик-отеле, но женщина-портье, сказала, что мест нет, и я не мог на нее обижаться, когда увидел свое отражение в окне и понял, что от меня несет рвотой.
В итоге я оказался в третьеразрядном мотеле, где мой вид никого не беспокоил; там я проспал весь день, проснулся, выпил воды из-под крана, наверное, литра четыре, опять спал, не помню сколько; наконец встал, принял душ и понял, что оставил сумку с одеждой в одном из баров.
Я выбросил рубашку в мусорное ведро, смыл рвоту с джинсов, почистил кожаную куртку и надел ее, застегнув молнию, чтобы не видно было, что я без рубашки. Удивительно, но бумажник все еще был при мне, и я мысленно поблагодарил производителя джинсов за внутренний карман на «молнии».
Потом я нашел магазин «секонд-хенд», порылся в вешалке с рубашками и выбрал себе одну почище и посимпатичнее. Кроме того, купил дешевые темные очки, потому что у меня резало глаза, но скорее всего, хотелось просто спрятаться. После чего я нашел интернет-кафе, где выпил несколько чашек черного кофе и воспользовался одним из их компьютеров, чтобы найти ближайшее собрание «анонимных алкоголиков», каковое и обнаружилось в Американской церкви недалеко от Дома инвалидов. Эта церковь предназначалась для американцев за рубежом, и собрание проходило на английском языке. Присутствовало, наверное, человек двадцать. Сначала я слушал рассказ молодой женщины о том, что ее муж добился опеки над их двумя маленькими детьми. Затем выступал мужчина, преподаватель английской литературы, при костюме и галстуке; он рассказал о том, что напился на работе и уже не помнил, за что против него было выдвинуто три обвинения в сексуальных домогательствах. Хотя гораздо больше его огорчало то, что его уволили из университета, с постоянной работы – лично мне эта история показалась самой поучительной.