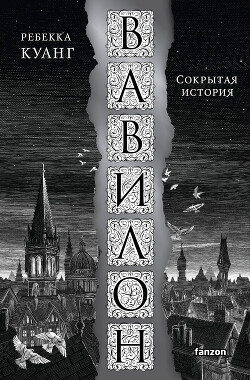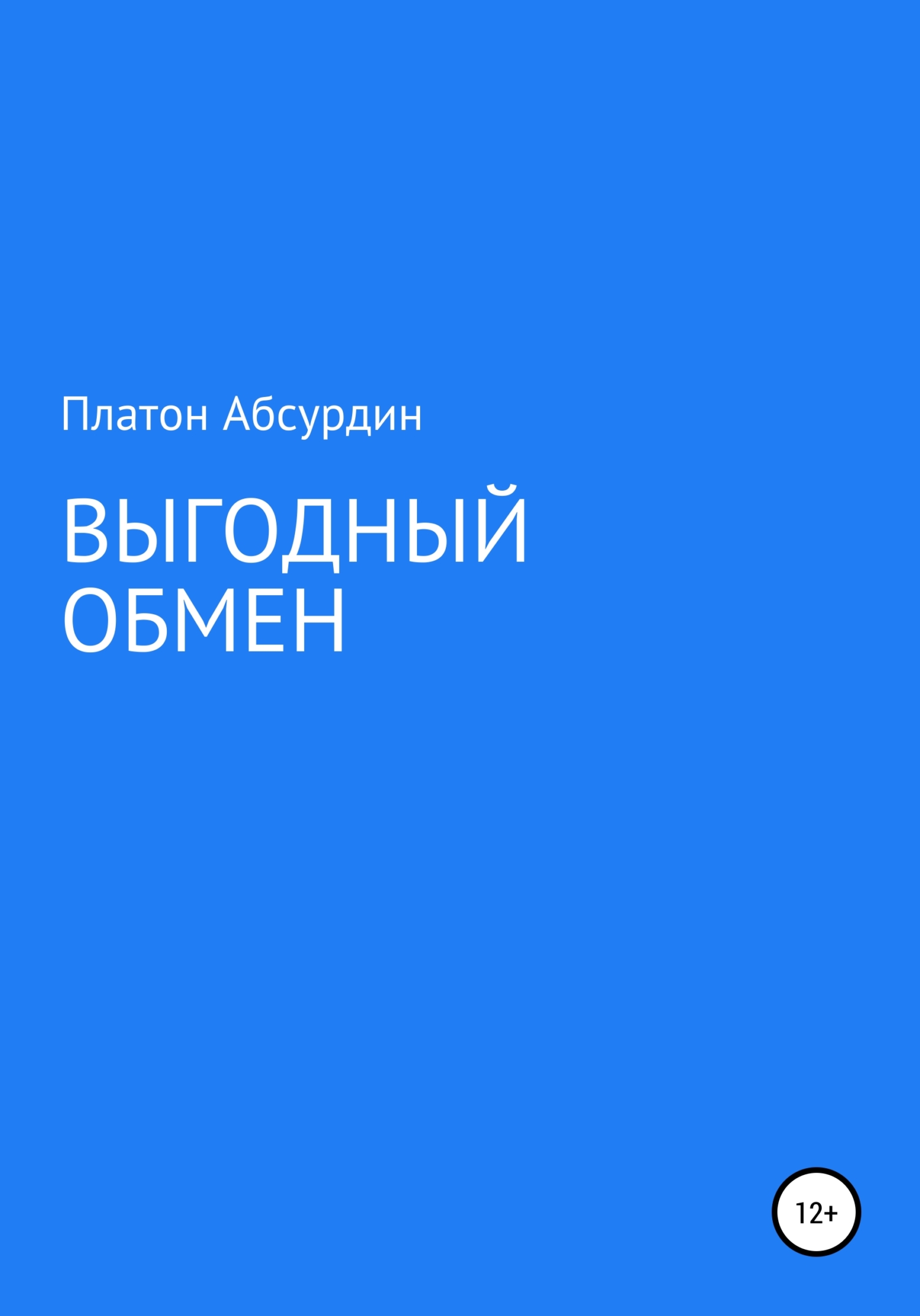Но сейчас я просто хочу побыть с кем-то, кто не пышет ко мне оголтелой ненавистью.
Когда я подъезжаю, мама уже ждет меня на крыльце. Несколько часов назад я позвонила ей с вопросом, можно ли к ней ненадолго заехать. Она согласилась, даже не спросив о причине. Интересно, насколько она осведомлена; видела ли она мое имя, размазанное по всему интернету?
— Ай, Джуни! — Она заключает меня в объятия, и от одного этого прикосновения мои глаза горят слезами. Меня так давно никто не обнимал. — Лапушка моя, все в порядке?
— Да, конечно. Проводила семинар в Бостоне. Он как раз закончился, я и подумала: а не заскочить ли мне в гости, прежде чем ехать домой?
— Ты знаешь, я всегда тебе рада.
Мама поворачивается, и я следом за ней иду в дом. Как прошел семинар, она даже не интересуется. Эта вопиющая безучастность ко всему, что связано с писательством, всегда меня порядком задевала, но сегодня, наоборот, утешает.
— Смотри под ноги, Джуни. У меня тут, извини, беспорядок.
Дорога на кухню заставлена полупустыми картонными коробками; по кафелю разбросаны скомканные газеты, полотенца.
— Ой, что это тут? — удивляюсь я.
— Да вот, убираю всякий хлам для хранилища… Осторожно, там вазы! Риелтор говорит, без этих бирюлек дом будет смотреться выигрышнее.
Я пробираюсь мимо стайки белых керамических кошечек.
— Ты что, продаешь дом?
— Да вот, готовлюсь, — отвечает она. — Думаю возвращаться в Мельбурн. Поближе к своим подружкам. Шерил на этой неделе бронирует для меня квартиру — там несколько свободных комнат, можете приезжать гостить. Рори тебе не говорила?
Не говорила от слова «совсем». Я в курсе, что маму тянуло вернуться во Флориду еще после смерти отца, а Филадельфия просто компромисс из-за того, что рядом жили бабушка с дедушкой, но я всерьез как-то не предполагала, что это место перестанет быть для нас домом.
Хотя, наверное, у Рори глубокой привязанности к нему не было никогда. Это меня держали своими чарами платаны на заднем дворе, где я пряталась и слагала истории еще долго после того, как Рори решила перекочевать в реальный мир.
— А с моей комнатой ты уже разобралась?
— Да я еще только приступила, — говорит мама. — Твои вещи я тоже в основном думала отправить в хранилище, но раз ты здесь, то почему б тебе не взглянуть — может, что-нибудь с собой возьмешь? Дай я до конца упакую этот фарфор, а потом мы снова встретимся здесь и поедим.
— А… Ну да, хорошо.
Прежде чем подняться наверх, я приостанавливаюсь на лестнице в ожидании — может, мама о чем-то спросит; уловит своим материнским чутьем, что с дочерью что-то глубоко не так? Но она уже отвернулась от меня к своим глупым кошечкам.
Мои тетради лежат там же, где и всегда, — поверх книжных полок, аккуратными стопками по пять штук. Каждая с моим именем, годом окончания, номером телефона и обещанием десяти долларов за возврат владельцу. Никаких Moleskine — обычные общие тетради в клеточку или в линейку, которые родители закупают детям в Walmart к учебному году. Миры моих грез.
Я снимаю их с полок и раскладываю на полу.
Фактически в них вся моя тогдашняя жизнь. Разномастные каракули, которые я царапала прямо на уроках; рисунки, которые старательно выводила после школы; сценки и сюжеты без начала и концовки, и даже фрагменты диалогов, посещавшие меня по ходу дня. Ни один из тех миров так и не обрел законченный вид — не было у меня ни собранности, ни ремесленных навыков для написания полноценной книги. Что-то вроде «шведского стола» из творческих потуг и недооформленных дверей в иные миры; миры, в которых я задерживалась часами, когда мне было скучно в своем собственном.
Я с улыбкой перелистываю страницы. Забавно наблюдать, как мои идеи произрастали из тех книжек или фильмов, которыми я в то или иное время увлекалась. Шестой класс: моя фаза «Сумерек», где я явно фанатела от Элис Каллен [68], а свою героиню изображала с такой же оспаривающей законы гравитации стрижкой пикси.
Девятый класс: моя эмо-фаза, где сквозь всё просачивались тексты Evanescence и Linkin Park. К тому времени я уже начала ваять какую-то урбанистически-футуристическую антиутопию, где молодежь рассекает по воздуху на скейтбордах и у всех пушистые «хвостики скунса» и перчатки без пальцев. В какой-то момент десятого класса я, похоже, подпала под влияние Айн Рэнд [69], поскольку к тому времени я уже абзац за абзацем выписывала портрет героя по имени Говард Шарп, который никому не кланялся и неодолимо гордился собой, будучи «единственным проводником правды в мире лжи».
Остаток дня я провожу за просмотром этих своих тетрадей и не замечаю, как летит время, пока мама снизу не спрашивает, не против ли я привозного ужина. Оказывается, солнце уже село. Получается, я несколько часов проблуждала в своих мирах.
Я кричу маме, что привозная еда самое то. После чего принимаюсь искать какую-нибудь коробку под свои тетради. Я отвезу их к себе и положу в шкаф — пусть всегда будут под рукой на случай, если вдруг накатит ностальгия. Для моих нынешних целей они сгодятся вряд ли — там нет ничего, что можно было бы превратить в коммерческий продукт. Зато когда понадобится, они будут мне напоминать, что писательство не было для меня таким уж пустым занятием.
О, как я скучаю по тем своим школьным дням, когда, открывая тетрадь на чистой странице, я видела перед собой не разочарование, а возможность! Когда я получала истинное удовольствие, нанизывая слова в предложения просто затем, чтобы ощутить, как они звучат. Когда писательство было актом чистого воображения и я уносилась куда-то в волшебно-призрачные дали, создавая нечто, что существует только для меня.
Я тоскую по своему писательству до того, как повстречала Афину Лю.
Но стоит лишь ступить на профессиональную издательскую стезю, как писательство вмиг становится предметом профессиональной зависти, мутных маркетинговых ходов, бюджетов и достижений, которые ревниво соизмеряются с достижениями твоих коллег. В твои слова, твое видение бесцеремонно вторгаются редакторы. Маркетинг и реклама заставляют тебя корнать и ушивать сотни страниц твоих тщательных, вдумчивых размышлений, пакуя их в «форматные» тезисы размером с твит. Свои воззрения властно изъявляют и читатели, причем не только на сюжет, но и на твою политику, философию и позицию по всем — даже этически сокровенным — вопросам. Продуктом становятся уже не твои тексты, а ты сам — твои внешность и обаяние, злословие и едкость в онлайн-батлах, до которых в реальном мире никому и дела нет.
И когда ты пишешь на потребу рынка, уже не имеет значения, какие истории горят у тебя внутри. Важно то, что хотят видеть зрители, слышать слушатели, и никого не волнуют внутренние размышления простой, с обычной ориентацией белой девушки из Филадельфии. Они хотят чего-нибудь нового, экзотичного, с повесточкой, и ты, если хочешь остаться на плаву, обязана им это дать.
Мама заказывает ужин в местном китайском фастфуде (название, разумеется, «Великая Стена»).
— Они здесь всего ничего, — сообщает она, когда мы усаживаемся, — но обслуживание уже никудышное. Я б туда сроду больше не обратилась. Три раза требуется звонить только для того, чтобы привезли хотя бы воду. Но доставляют быстро, и их курица в апельсиновом соусе мне нравится.
Мама открывает картонку с рисом и ставит передо мной.
— Тебе же нравится китайская кухня?
Мне не хватает духу сказать, что китайскую кухню у нас любит Рори, а меня от этой жрачки воротит, особенно после того ужасного клуба в Роквилле.
— Ну а что, вполне.
— Я взяла тебе «тройного Будду». Или ты по-прежнему вегетарианка?
— По-разному. Иногда почему бы не попробовать. — Я разламываю свои палочки для еды. — Спасибо.
Мама, кивнув, накладывает себе на тарелку немного обжаренного со свининой риса и начинает есть.