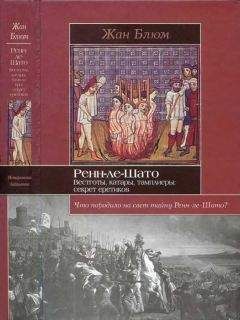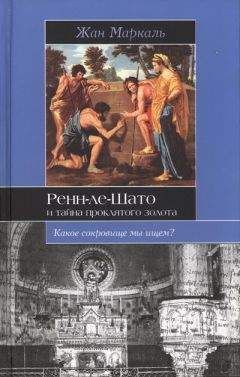На первое же утро по прибытии меня приволокли в просторную комнату и поставили пред возвышением, где восседал муж, о котором сообщили мне, что он помощник великого инквизитора Парижа. Он зачитал мне обвинения, схожие с теми, что я слышал от бальи. Я ответствовал, что не виновен, после чего меня подвели к входу в соседнюю комнату, откуда доносились крики и стоны.
Я предположил, что там должны были подвергнуть меня пыткам, дабы признал я истинность напраслины, возведенной против братьев Храма. Посейчас не знаю, что было хуже: ожидать, слушая крики других истязаемых, или самому переносить мучения.
Я хотел молить Бога даровать мне силу, чтобы вытерпеть все, что меня ожидало. Увы, знание, обретенное в той проклятой пещере, отнимало все мое стремление к молитве, ибо не знал я, кому ее возносить.
В соседней комнате тем временем наступила тишина, и оттуда вынесли обмякшее тело старого келаря, который испустил дух, не выдержав мучений. Воистину, ему повезло более, нежели остальным тамплиерам.
Меня привязали к сочлененным меж собою железным решеткам, так что сидел я, протянув ноги к экрану, по другую сторону которого пылал огонь. Ступни мои намазали жиром, убрали экран, и ноги стали поджариваться, словно оленина над очагом. Экран меж тем двигали туда и сюда, управляя силой жара. Каждый раз мои мучители сызнова читали ужасные обвинения, кои я раз за разом отрицал, невзирая даже на то, что обонял смрад собственной плоти, которая, шипя, поджаривалась на огне. Я орал так, что сам чуть не оглох, и наконец погрузился в благословенную темноту.
Мучители мои не удовольствовались этим, но привели меня в чувство и начали все снова.
На следующий день у меня вырвали два зуба. Еще днем позже вздернули на дыбе.
Не знаю, долго ли пролежал я на соломе в моей темнице, соблазняя обожженной плотью грызунов и других паразитов и страдая от боли в поврежденных мышцах и вывернутых сочленениях. Мне было немыслимо трудно отбиваться даже от этих мелких врагов, пока не появился передо мной мальчик. Сначала подумал я, что он был лишь одним из многих видений, посещавших меня, когда от боли терял сознание и приходил в себя. Но выяснилось, что он настоящий человек, служба коего состояла в том, чтобы ухаживать за такими же несчастными, как я, наподобие того, как подручный скотника ходит за животиною в хлеву — он заменял мне солому и наливал свежую воду вместо той вонючей позеленевшей жижи, которая была в бадье.
Зовут его Стефан, и от него я узнаю все новости. Мальчик сказал мне, что даже понтифик Климент V отрекся от нас и стакнулся с королем Филиппом, дабы уничтожить орден вопреки всем обещаниям своего предшественника. Я также узнал, что Его Свя-тейшество объявил всех наших братьев богоотступниками, орден распустил, а все его богатства повелел конфисковать. Но великое множество братьев, равно как и большая часть сокровищ и принадлежащий ордену флот, исчезли.
Узнал я также, что братья, отказывающиеся признать наветы и измышления, воздвигнутые против них, будут сожжены перед замком тамплиеров в Париже.
Так я оказался перед неразрешимой проблемой. Что делать? Дать ложные свидетельства, признать обвинения и тем самым избавиться от дальнейших мучений, но обречь душу на вечное проклятие, или, напротив, твердо держаться истины, что неми-нуемо закончится дальнейшим умерщвлением плоти и смертью на костре? Если бы я мог, как и прежде, твердо верить, что второй путь приведет к спасению души! Тогда не пришлось бы мне выбирать одно из двух. Но, увы, после того как прочел то, что записано на камне на горе Карду, не ведаю я, существует ли вообще вечное спасение.
Если бы оставался я скромным монахом в сицилийском монастыре, не вожделел бы вкусной еды и новых одежд, не постигла бы меня нынешняя участь. Если бы…
Мне придется прервать записи о последних событиях и спрятать чернила, перо и бумагу, ибо, узнав о моих трудах, тюремщики отберут все записанное. Подходит к концу краска, которую я смешиваю с грязной водой, чтобы делать чернила, коими пишу. Да и беды в этом большой нет, ибо мало что еще могу я добавить к написанному. Жить мне осталось совсем недолго, да и писать я могу, лишь превозмогая сильнейшую боль в руках, неоднократно вывернутых из суставов, и пальцах, распухших после того, как допрашивавшие меня палачи содрали с них ногти.
Я ожидал новых истязаний, но предстал перед тем же инквизитором, который повелел мне пересказать, как проходило мое посвящение в орден. Та церемония была простой, однако же проводилась пред лицом капитула и самого Великого магистра Жака де Моле. Было мне сказано, что быть слугой других, а именно Господа нашего и старших братьев ордена, и отречься от собственной воли — дело очень трудное. Я был обязан ответить на несколько вопросов. Вел ли я тяжбу с каким-нибудь человеком и имелись ли за мною долги? Был ли я обручен с женщиной? При этом вопросе сам я не сдержал улыбки, да и многие братья усмехнулись, невзирая на великую серьезность сего момента, ибо знали они, что прежде я был всего лишь юным послушником в Сицилии. Страдал ли я какими-нибудь телесными немощами? После чего собравшиеся старшие братья спросили у присутствовавших, есть ли у кого-нибудь возражения против приема моего. После единодушного ответа: «Нет» — был я принят в орден.
Инквизитор нахмурился, выслушав меня. Пока писцы заканчивали запись моих свидетельств, он стал спрашивать, какие присяги с меня требовали. Я поведал все, как было, сказал, что поклялся на Священном Писании и на кресте всегда блюсти це-ломудрие, пребывать в повиновении и не владеть имуществом. После чего Великий магистр поцеловал меня в губы и дал следующие наставления. Я должен был впредь спать в рубашке, штанах, чулках и туго подпоясанный, никогда не задерживаться в доме, где есть беременная женщина, никогда не посещать свадьбы, не присутствовать при очищении женщины, никогда не поднимать руку против другого христианина, кроме как для самозащиты, и быть правдивым.
Когда завершил я свои показания, меня вернули в темницу. Позднее Стефан сказал мне, что мои слова полностью совпали с рассказами других братьев, допрошенных в тот же день, но все же инквизитор счел, что все мы лжесвидетельствовали.
Не будь Стефан столь откровенен со мною, я неминуемо поверил бы многократным уверениям инквизиторов в том, что все мои братья подтвердили обвинения. Воистину, те, кто допрашивал меня впоследствии, внушали мне больше страха, нежели первые, обрекавшие меня на пытки. Ибо одни из них изображали доброту ко мне и даже плакались о моей судьбе, уговаривая меня облегчить душу и покаяться в приписываемых мне грехах, а другие били меня по лицу и пугали, но тем самым лишь удерживали от такого страха, при коем можно невольно оскверниться собственными испражнениями.
Боль преходяща, тогда как проклятие вечно. Я решил не лжесвидетельствовать против моих братьев и ордена. Я прошу Бога вдохновить моего палача, дабы удавил он меня, прежде чем мое тело охватит огонь. Из воистину важного же молю я о том, дабы пребывание мое в чистилище пред тем, как Бог и все Его святые примут меня в небесах, было непродолжительным. Я молю Его простить мне грех гордыни, которая соблазнила меня отречься от моего изначального состояния и пуститься на поиски знаний, к коим нельзя было обращаться, из-за коих я иду к смерти, страдая из-за откровения, с которым не желаю смириться.
Молю также, чтобы и ты, тот, кто найдет сии писания, помолился за меня, ибо время мое на этой Земле и запасы всех моих письменных принадлежностей вот-вот подойдут к концу.
Послесловие переводчика
Если и был документ, в котором перечислялись тамплиеры, сожженные в Париже в период между октябрем 1307-го и апрелем 1310 года, то до нас такой список не дошел. Мы знаем, что де Моле не предпринимал ни одной попытки к бегству и до последнего момента верил, что доброе имя ордена будет восстановлено.
Вполне вероятно, что такой список вообще не составлялся: анонимность жертв сама по себе должна была подкрепить страх, который Филипп стремился вселить в тех, кто не желал согласиться с обвинением. Умереть без имени — значило умереть без причастия и без похорон в освященной земле, без миропомазания и, соответственно, без надежды на воскресение из мертвых — ужасающая перспектива для человека, живущего в начале XIV века.
Мы никогда не узнаем, какая же именно находка, сделанная Пьетро в пещере, так поколебала его веру, но это и неважно. Куда больший интерес представляет сделанное по личным впечатлениям описание жизни тамплиеров после того, как они покинули Палестину и перешли к мирной жизни.
Эти записки, несомненно, будут представлять интерес для историков на протяжении еще многих лет.
Н. В.
1
Ренн-ле-Шато