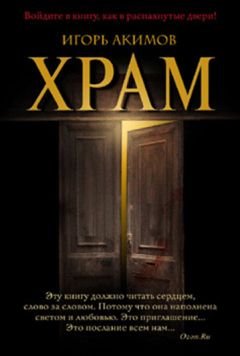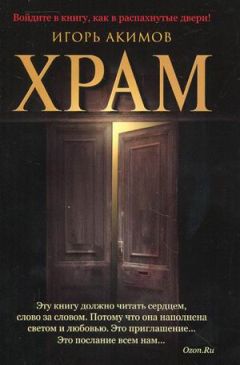Поэтам легче: они утешаются тем, что материализуют субстанцию, которая из них вытекает. Как сказал Уитмен: «Я любил одного человека, который меня не любил, — вот оттого я и написал эти песни». Но этот фокус с материализацией чувства не меняет сути дела. Безответная любовь, как и всякая болезнь, разрушает и поэта. Кто он такой? Вот формула: поэт — это человек, который любит. Ну и люби, блин, природу! — и будешь жить долго.
Так рассуждал Илья. Что-то в этом роде.
Кстати, наверное, вы обратили внимание: о боге при этом он не думал. Фраза «Бог есть любовь» ему ничего не говорила. Ни разу в жизни он не чувствовал присутствия Бога, тем более — его любви. В самом деле, а где был Бог с его любовью все те годы, когда Илья шел через пустыню свою? Любовь ему подарила Мария (конечно, страсть, а не любовь, но в нем-то эта страсть зажгла любовь, уж тут-то нет сомнений), Бог тут ни при чем. Мария была его Богом, но так он о ней никогда не думал. Если б его спросили: а что ты о ней думаешь? — вряд ли бы он нашелся, что ответить. Он ее не думал, он ее чувствовал. Как себя.
Вскоре после разрыва он заметил в себе какое-то торможение. Он явно потерял легкость; трансформация маски теперь происходила не естественно, а с преодолением чего-то. Каждый раз приходилось собраться, подумать — и лишь затем возникала необходимая маска. Может быть — приходилось преодолевать неохоту? Неохоту вполне объяснимую: он потерял вкус к этой игре, и продолжал ее по привычке. Илью это не смущало: такое случалось и прежде. Я потерял много энергии, думал он, вот и все. С кем не бывает. Болезнь надо пережить. Энергия восстановится, естество возьмет свое; главное — не гнать лошадей…
Он настроился на долгое выздоровление и жил как бы в полусне. Он умел ждать, и обустроил все так (слава богу, средства позволяли; он всегда знал, где лежат деньги, и если б его счастье было в деньгах — как бы легко и красиво он жил!), что ожидание не было ни назойливым, ни тягостным. Он приехал погостить к университетскому приятелю в горное село, где приятель был директором школы. Долина была не широкой, но живописной. Горы были совсем рядом, но почти не заслоняли солнце, потому что долина протянулась с востока на запад. И мелкая прозрачная речка бежала с востока на запад, и улочки (все на северном берегу) тянулись так же, только полосы виноградников на охровых склонах темнели поперек. Людей почти не было видно, да Илья не очень-то интересовался, чем они добывают свой хлеб. Правда, иногда появлялись солдаты, но они вели себя осторожно и без нужды не входили в контакт. Час-другой — и вместе с затихающим ревом дизелей таяла недолгая память о них. Когда Илья гулял по окрестностям, встречные здоровались с ним, а работавшие на своих участках хозяева отставляли мотыги и через невысокие дувалы из серого сланца угощали Илью виноградом и душистыми ломтиками сушеной дыни. И никто первым не заговаривал.
Это был бы все тот же рай, если бы Мария была рядом. Здесь о Марии он думал без боли. Вернее — специально он о ней не думал (о чем думать, когда и так все ясно?), но когда ее образ всплывал в нем, душа отзывалась не болью, а теплой грустью. Это хороший признак, думал Илья. Душа знает больше ума. У нее связь с душой Марии, и этого у меня не отнять…
Он чувствовал, как наполняется. Как возвращается вкус к жизни. Еще бы совсем немного!.. — но тут-то оно и произошло.
Господи! как же он все это ненавидел! Как же он ненавидел это вдруг! Это незримое нечто, которое ловило момент (именно так! — ловило; оно не действовало спонтанно; оно терпеливо выжидало, насмешливо наблюдая из своей глубины, как ты постепенно расслабляешься в своем раю, как теряешь бдительность, чтобы ударить наверняка и побольнее), и вдруг набрасывалось, и одним рывком опрокидывало твою жизнь. Опрокидывало так легко, как вдруг всплывшее из глубин океана чудище опрокидывает лодочку, застывшую на спящей воде.
Он не помнил, что происходило за миг до этого. Не помнил, на что смотрел, о чем думал, и думал ли вообще. Он вдруг услышал женский крик, сдавленный женский крик. И увидал двух солдат, которые втаскивали отбивавшуюся женщину в двери мазанки. Илья перелетел через ограду, вбежал в дом. Солдаты повалили женщину на пол; один пытался зажать ей рот и закрыть лицо какой-то тряпкой, второй сдирал с нее одежду. Они показались Илье такими большими… Оружие они не успели сбросить, его было много и оно им мешало, но они пока не замечали этого. И Илью не сразу заметили, а он уже увидел лопату, стоявшую возле двери. Илья схватил ее, замахнулся. Удобней было бить того, кто зажимал рот. Удар падал плашмя, но в последний момент Илья понял, что если не сможет оглушить… и повернул лопату. Она вошла наискосок в шею удивительно легко. Солдат как стоял на коленях, так и рухнул лицом вниз. Молча. Тяжело, словно куль. Второй увидел это, поднял лицо. Их взгляды встретились. Солдат не боялся. Ему нужно было совсем ничего, чтобы среагировать — и убить Илью. Руками, ножом, из автомата — безразлично чем. Силы были так не равны, и он настолько был уверен в своей быстроте, что позволил себе не спешить. Может быть — хотел получить удовольствие от схватки. Сперва доказать свое превосходство — и уже затем расправиться… Чтобы снова замахнуться — у Ильи времени не было. И он — даже не отведя лопаты — ткнул ее лезвием в это лицо. Илья вложил в этот тычок все, что в нем было. Лезвие вошло в лицо с хрустом — и застряло в костях. Ноги не держали Илью, и он сел на глинобитный пол…
Тишина. Нет — вот мухи жужжат. Второй привалился спиной к давно не беленой стене, зажал лицо руками, между пальцами течет кровь. Первый как упал — так и лежит ничком. Женщина (да какая ж это женщина! — девчушка; пожалуй, ей еще и четырнадцати нет) боится шелохнуться, глядит широко распахнутыми глазами.
— Уходи…
Она вскочила, придерживая разорванную одежду, и исчезла.
Илья встал, шагнул к раненому солдату, потянул через его голову задвинутый за спину «калаш», из кобуры достал пистолет, который, как потом Илья выяснил, оказался старым чешским «браунингом». Расстегнул и забрал ремень, на котором был большой нож, патронташ, две гранаты и переговорное устройство. Вытянул из нагрудных карманов четыре рожка с патронами. В карманах оружия не было, зато за голенищем оказался еще один нож.
Солдат не сопротивлялся и даже не стонал, только чуть раскачивался и старался плотнее сжать рассеченные ткани лица.
Силы опять оставили Илью, и он опустился на прежнее место. Вот теперь он не боялся этого типа. Хотя — кто знает, на что он способен, даже с такой раной…
Это была кухня. На глаз — 5 на 2,5. Маленькое пыльное окошко. Рукомойник, засиженная мухами лампочка на пожелтевшем от древности матерчатом шнуре, на облупившейся клеенке стола еще и керосиновая лампа. Печка небольшая, низкая, с чугунным верхом на две конфорки. Посуда алюминиевая. Под потолком сохнет шерсть и какие — то травы в пучках. Нищета.
Почему!? ну почему у него не было предчувствия? Ведь у других людей оно есть; во всяком случае — в ответственные моменты жизни — бывает. Он столько раз слышал об этом, о внезапной необъяснимой тоске, о неудержимом желании уйти, свернуть, резко изменить ситуацию. «Не садись в этот самолет…»
Но и тоска, и даже не проявленное в конкретные образы ясновидение — это все работа души. Значит — моя душа оставила меня? Или же она так не развита, что не способна заглянуть хотя бы на полчаса вперед? Или способна — но мстит за прошлое пренебрежение?..
Все произошло так стремительно и просто. Так стремительно, что он ни о чем даже подумать не успел. И чем же в это время был занят его ум, которым он так всегда гордился? Почему ум не остановил его? Что с тобой случилось, Илья? Ведь прежде такое даже в теории не могло с тобой произойти. Мало ли зверства вокруг. Такова жизнь. Не меня насилуют — и на том спасибо. Не высовывайся — не получишь по морде. Ах, Маша, Маша…
Времени у него совсем не осталось; плохие вести летят на крыльях; когда он выйдет из этой мазанки, о произошедшем будет знать уже все село. Мое время вышло, подумал Илья. Теперь оно у меня за спиной. Я сам намалевал себе черную метку. Вот уж чего никогда не мог представить, так это жизни людей, приговоренных к смерти. Их время вышло, а они живут… Непонятно.
Илья поднялся, не спеша собрал оружие с убитого, нашел старую хозяйственную сумку — и свалил в нее все, кроме автоматов. Автоматы забросил на одно плечо, сумку — на другое, прикинул, сможет ли справиться с такой тяжестью, решил, что сможет, и вышел из мазанки. В мире ничего не изменилось. Мир был все так же хорош. Я убил человека, подумал Илья, изуродовал второго — а душа молчит. Ну что ж, и на том спасибо.
Он знал окрестности, поэтому знал, куда идти. Ему не встретился никто, никого он не видел во дворах, но взгляды чувствовал. Ему было все равно, что они думают о нем. Еще он понимал, что в селе могут быть и другие солдаты, и кто-то из них может встретиться ему. Но он и об этом не думал. Страха не было, даже опаски не было. Страх всегда впереди. Если твое время вышло — страху негде поместиться. Если мне еще доведется пожить — это будет совсем новая жизнь, думал Илья. Ведь страх всегда жил во мне. Совсем рядом, под кожей; я постоянно ощущал его холодящее, ментоловое дыхание. Страх разоблачения, страх быть униженным… Вот этого — унижения — Илья боялся больше всего. Он знал, что не сможет утереться и забыть. Он пережил унижение только дважды в жизни (наверное — больше, но он не был мазохистом, чтобы коллекционировать свои унижения), оба раза — очень давно, и с тех пор они лежали у него на сердце и мешали дышать. А теперь никто не сможет его унизить, даже не помыслит об этом. А если не почувствует — и сунется, то теперь у него есть средство, каким восстанавливают status quo.