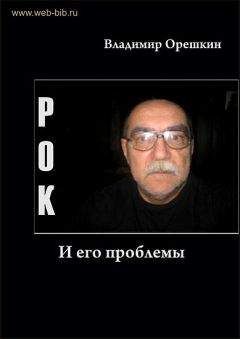Взял бумажку, оставил ей рюкзак с удочками, подхватил свою фартовую сумку, и отправился к кассе.
И, подходя к окошку, вдруг понял, почему она обиделась… Потому что я сказал ей «ты».
6
Поэтому, возвращался я уже другим. С билетом в кармане и с думой на челе. Я достаточно суетился сегодня, так что суета закончилась, — осталось нормальное такое усталое спокойствие. Сродни некой философской мудрости.
— Привет, — сказал я, наблюдая за ней. — Может, познакомимся? Меня зовут Михаил. Как зовут тебя?
Я специально приберег это «тебя» на последок, для чистоты эксперимента.
Опять что-то изменилось в лице, но не ахти. Из-за грязи, которой она себя разукрасила, за мимикой наблюдать было сложно.
То ли обиделась на этот раз не очень, то ли что-то другое стало занимать ее больше, чем обида, — например: что ответить мне, — какое имя назвать…
Пауза стала затягиваться, она понимала, на такой естественный вопрос нужно отвечать, но явно была не готова к ответу. Даже покраснела слегка, как я сумел определить, — несмотря на ее грим. Потом, как рыбка, которой не хватает воздуха, приоткрыла рот, набралась смелости и, виновато улыбнувшись, сказала:
— Маша.
Улыбка у нее была, что надо, как в рекламе лучшей в мире зубной пасты «Блендомед-Тотал», все ее идеальные тридцать два были идеально начищены.
— Рад познакомиться, Маша… — сказал я, присаживаясь рядом. — У нас двадцать пять минут. Насчет велосипеда можешь не беспокоиться. Но тебе придется тащить мой рюкзак, он не тяжелый, и удочки.
— Да, конечно, — сказала она, без паузы.
Я достал из кармана сорок семь рублей и протянул ей.
— Что это? — испуганно спросила она.
— Сдача, — сказал я.
— Не нужно, что вы… Оставьте себе.
Я поудобней устроился на лавочке, полуобернувшись к Маше или как там ее звали на самом деле. Мне этого очень не хватало, посидеть с десяток минут на лавочке, чтобы ощутить тяжесть своего тела и его неподвижность. Очень приятное, какое-то трудовое это было ощущение, будто бы работа завершилась и теперь можно отдохнуть. Будто тело исчезает, — от этого у него наступает гармония с головой, которая становится главной.
Девчонка, как девчонка, — ничего особенного. Руки на месте, ноги тоже на месте, не худая и не толстая, не уродина, но и не красавица, — самая обыкновенная девчонка. И имя это ее дурацкое «Маша», ей очень подходит, — спокойное какое-то имя, без всяких этих дамских выкрутасов типа «Жасмин» или там «Камерон».
— Двадцать пять минут до электрички, час десять — час двадцать там, еще минут десять-пятнадцать после. Получается около двух часов. Так?
— Так, — чуть удивленно согласилась она.
— То есть, нам вместе нужно будет провести около двух часов… Давай договоримся, — ты будешь называть меня на «ты». Хорошо?
— Да, — без паузы ответила она.
— Деньги возьми, это твои деньги, мне они не нужны. У меня своих — целый воз.
— Я вижу, — сказала она, с некой непередаваемой иронией, но сдачу взяла и, не глядя, закинула ее в свою помойную авоську.
— И еще, — сказал я, не зная толком сам, что сейчас скажу. Но что-то хотел сказать, важное, не известное в тот момент самому. — И еще… Вот все говорят, что правда, — это хорошо, а вранье — это плохо. Почему?.. Нет, на самом деле, почему?.. Ведь врать — это защищаться. Каждый человек имеет право на самооборону. Если не врать, тебя быстренько размажут по стенке и спасибо за это не скажут… Ложь — это оружие, щит какой-то. В общем, без вранья никак нельзя. Если хочешь выжить, — в этом лучшем из миров. Ведь так?
— Не знаю, — сказала она, подумав, — может быть и так.
— Так вот, — сказал я, — у меня к тебе просьба, еще одна и последняя… Давай эти два часа попробуем прожить без нее. Давай не врать… Знаешь, интересно посмотреть, что получится. Ни ты меня, ни я тебя по стенке размазать не успеем, времени не хватит. Хорошо?
— Это будет не просто, — улыбнулась она своим великолепием, и задумалась.
— Ты что, изовралась так, что ничего другого уже не осталось?
— Как раз наоборот, я совсем не умею обманывать. Когда я вру, все сразу это видят.
— Тогда тебе будет легко.
— Мне не будет легко, — сказала она, и взглянула на меня, впервые не отводя глаз…
Это был шок, или удар, или то и другое одновременно. Словно меня, моими же удочками пригвоздили к скамейной спинке. Пробив насквозь во многих местах. Я потерял способность двигаться, членораздельно говорить, дышать, и вообще о чем-либо думать. Во мне ничего не осталось, кроме одного, последнего желания, до которого я во мгновенье докатился, где-то жившего еще внутри меня: сделать что-нибудь, чтобы она ничего не заметила, моего невольного головокружения, как-то собраться, прийти в себя, напрячь жалкие остатки воли, — только что гордого человека.
— Ну, а теперь скажи какую-нибудь правду, — спокойно сказала она.
— Это будет не просто, — еле промямлил я.
— Ты попробуй, — мягко настаивала она, — вдруг получится…
— Человек произошел не от обезьяны, — сказал я, — это чудовищная глупость. Нас в школе водили за нос.
* * *
Электричка возникла в мареве, там, где сходятся на нет рельсы и горит зеленый огонь семафора. Она на глазах становилась больше, и, подъезжая к платформе, загудела, чтобы народ отошел от края.
Она наехала, тормозя, — как всегда в крутящемся ветре, пахнущем разогретым железом. Народ сделал полшага назад, но не больше, — предстояла битва за места.
Маша схватила меня за рукав, так крепко, что я почувствовал ее острые ногти.
— Придется постоять, — сказал я, — с велосипедом про плацкарт можно забыть.
Вагоны останавливались, можно было уже угадать, где получится дверь, и смещаться к тому месту. Я и попробовал, но Маша так же крепко, почти до боли, продолжала сжимать мою руку, — с беспризорницей справа, и велосипедом слева перемещаться среди скопления людей не представлялось возможным.
Так что к дверям мы подошли, когда другие желающие были уже в вагоне.
— Давай, — сказал я, подталкивая Машу вперед.
Но она уперлась перед дверью и не хотела входить в вагон, — по-прежнему не выпуская мой рукав.
— Давай, — повторил я, — быстрей, а то тронется.
Но подружка моя с места не двигалась… Ерунда, какая-то, — вдруг, на пустом месте, и какая-то ерунда.
Маша стояла перед дверью, и смотрела вниз, в промежуток между платформой и вагоном, — что она там увидела интересного? В самый неподходящий момент.
— Давай! — торопил ее я.
Двери вот-вот зашипят, закрываясь, а мы все еще на платформе.
И тут я не выдержал, — отпустил драгоценный велосипед, подхватил ненаглядную на руки, не забыв при этом и ненаглядную сумку, — и водрузил все это в тамбур вагона. А уже следом последовало транспортное средство. Так что мы удачно оказались в электричке, в самый последний момент, потому что двери ее закрылись, чуть не придавив мне спину.
Я достал сигареты, закурил и посмотрел на свою попутчицу.
— Ну? — спросил я ее.
— Дай мне одну, — попросила она.
Я протянул ей пачку, она достала сигарету, и я заметил, — пальцы у нее слегка дрожат.
Что же случилось?.. Что же случилось, — ничего же не произошло, — из-за чего тогда весь сыр-бор?..
— Что там было? — спросил я.
— Где?
— На рельсах.
— Бумажки какие-то.
— И все?
— Какой-то мусор, — сказала она, затягиваясь моим ЛМом.
— Так, — сказал я, рассматривая ее. Она была на полголовы ниже меня и выглядела скромница скромницей, — потупясь, изучала шину своего велосипеда, при этом, со знанием дела, покуривая мою сигарету. — Не крепкие?
— Других же нет, — сказала она.
— И что ты можешь сказать?
— Мне стыдно, — ответила она.
— За что?
— Просто стыдно, и все… Ни за что.
Ни за что, — не бывает. Но она не врала, должно быть. Не потому, что мы договорились, — с трясущимися пальцами о пустяковых договоренностях не вспоминают.
— Ты испугалась, — сказал я.
— Очень.
— Но между рельсами и вагоном ничего не было?
— Да.
— Ты испугалась раньше.
— Да.
— Ты испугалась электрички?
— Да.
— Ты первый раз садилась в электричку, и впервые в ней едешь?
— Да.
— Ты, случайно, не инопланетянка?
— Нет.
Я помолчал, переживая последнюю новость, а потом спросил осторожно:
— Может быть, ты и в метро никогда не ездила?
— Никогда, — ответила мне Маша, еще ниже опустив голову.
Должно быть, новая волна стыда нахлынула на нее…
Двери из вагона открылись и вошли две женщины, им нужно было выходить на следующей станции. Обе были полные, с большими бюстами и от этого казались сестрами. Они молча принялись разглядывать нас, причем одна смотрела только на меня, другая — только на Машу.