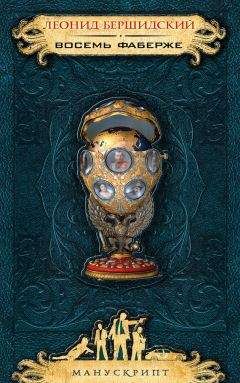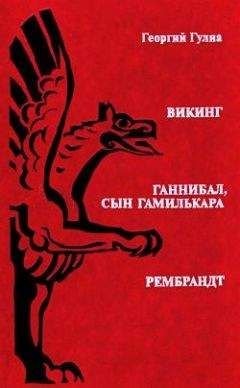– Голландская комната, – говорит вполголоса Лори: она хорошо помнит, как здесь все устроено. Они сразу замечают две пустые рамы, аккуратно прислоненные к стене. Но что в было в этих рамах до визита «копов», непонятно; Лори, когда была здесь в первый раз, полчаса простояла с открытым ртом напротив «Концерта» Вермеера – волшебная картина! – и помнит, конечно, рембрандтовскую «Бурю на море Галилейском». Но обе эти картины на месте! А вот и третья рама, большая, и, кажется, Лори припоминает, чего теперь не хватает, – тут же был двойной портрет Рембрандта, мужчина и женщина в черном, в кружевных воротниках, он как бы в луче света…
– Почему они не взяли Вермеера? И «Бурю» – я слышала, это единственная марина Рембрандта? – От удивления Лори больше не шепчет.
Они идут дальше, и Лори видит, что на месте ван Дейк и Рубенс, Рафаэль, Боттичелли… Джейми никогда толком здесь не был, только внизу с охранниками. Он не любитель живописи, но даже ему ясно, какие сокровища не тронули «копы». А взяли что-то, чего Лори даже не помнит.
Оставив Джейми в маленькой комнатке сразу за итальянским залом – это Короткая галерея, вспоминает она, здесь Дега, – Лори поднимается выше, и, да, главное сокровище здешней коллекции – «Европа» Тициана – тоже на месте! Лори стоит перед большим холстом, выше ее роста, метра два в ширину, и разглядывает его в полумраке – уличный фонарь едва освещает зал. Вот это да! Она могла бы сейчас снять Тициана со стены и просто уйти, и никто никогда не узнал бы…
Джейми недолго рассматривает картины на втором этаже: его больше занимает судьба Рэя. Да и лучше Лори не видеть того, что он, наверное, найдет в подвале. Джейми ставит ногу на последнюю ступеньку лестницы – и слышит мычание. Но не стон, а музыку. Это любимая песня Рэя, дилановская I Shall Be Released. Рэй пытается напевать ее с заклеенным ртом, так это звучит. Джейми осторожно заглядывает в подвал и видит обоих охранников, прикованных наручниками – один к металлическому столу, второй к трубе.
Джейми колеблется пару секунд – и поворачивает назад. Слишком много вопросов будет к нему у Рэя с напарником. По дороге в Голландскую комнату он принимает решение.
Вой сирены взрывается в ушах, заставляет Лори схватиться за сердце. «Ну, всё», – проносится у нее в голове. Звук тупого удара, сирена смолкает – она надрывалась всего секунд пять. Лори чуть не кубарем скатывается с лестницы: «Джейми! Что за…»
– Все нормально. – Джейми на полу в обнимку с «Бурей», пытается разломать золоченую раму, и она подается, трещит. – Тут был сигнал, чтобы посетители не подходили слишком близко. Я стал снимать картину, он и завыл. Я его ногой снес. Мне ребята рассказывали про эти сигналы – просто пугалки, ни к чему не подключены.
– Джейми, что ты делаешь? – Но ведь и ей пришла минуту назад та же мысль, так что чему удивляться.
– Такого шанса у нас больше не будет, Лори. – Джейми совсем протрезвел и смотрит на нее серьезно и доверчиво. – У тебя есть маникюрные ножницы?
У нее есть. Пока Джейми кромсает холст, срезая его с подрамника, Лори вспоминает:
– А как же Рэй?
– Все с ним в порядке. Живой, в подвале. – И продолжает резать.
Если настоящие копы не приехали до сих пор, значит, те, фальшивые, оборвали какие-то правильные провода и вынули какие-то правильные кассеты. Ну а что, это ведь профессионалы, верно?
Третий час ночи. Сгрузив на землю свернутые холсты, Джейми и Лори тихонько затворяют за собой дверь, переходят Фенвей, пересекают парк. Лори снимает квартиру в десяти минутах отсюда, на Килмарнок-стрит. На улицах ни души: Фенвей отпраздновал День святого Патрика и уснул.
Рейс Москва – Нью-Йорк, 2012
Имя кое-что говорит Штарку, это точно. Просто он не любит вспоминать ни Софью Добродееву, ни вообще всю историю о том, как он чуть не стал художником. Но в самолете – Федяев вручил ему билеты до Нью-Йорка, а оттуда до Бостона; то есть картины, выходит, никто никуда не вывез? – в самолете все возвращается к Ивану. Как будто и не было двадцати четырех лет между поездом «Свердловск – Москва» летом восемьдесят седьмого и этим рейсом «Москва – Нью-Йорк».
Был такой скульптор, Иван Шадр – это он изваял «Девушку с веслом» и «Булыжник – оружие пролетариата». На художника он выучился в Екатеринбургской художественно-промышленной школе: в тринадцать лет сбежал от фабричной кабалы и сдал экзамен по рисунку, как будто все детство только и делал что рисовал, а не горбатился на фабрике, как взрослый. Правда, потом к обучению Шадра приложил руку Роден в городе Париже. Но это было уже так, вишенка на торте.
В Шадринске Курганской области все знают великого земляка. Знал и Иван. «Девушку» и «Булыжник» он ненавидел, как родных. Но точно знал, что будет учиться там же, где Шадр. То есть в Свердловском художественном училище. Оно как раз тогда боролось за честь носить имя скульптора. Для этого надо было научить много мальчиков и девочек писать панно типа «Красные пришли» или, скажем, лепить скульптуру «Материнство».
Штарк не хотел лепить ничего подобного, но был уверен, что двигаться надо с востока на запад, за солнцем. Свердловск – это только на три градуса долготы западнее Шадринска. Но надо же с чего-то начинать.
Мама легко отпустила Ивана учиться. После смерти отца жили они так себе, а оформители тогда зарабатывали отлично, рублей триста в плохой месяц, а в хороший – и все пятьсот. Маму тревожило только, что, когда Иван ее рисует, получается как-то непохоже. «Мама, это наброски к портрету Крупской», – отвечал Иван. Смеяться над такими шутками она отказывалась из педагогических соображений. А Штарк знал, что, если что-то и не выходит, в Свердловске он этому научится.
В четырнадцать Иван окончил восьмой класс и стал взрослым. Сдал сочинение и историю на пятерки, а живопись и рисунок на четверки – и поступил. В училище студентов называли на «вы». Штарк принимал это как должное.
В Шадринске никто не знал группу «Аквариум», или Иван не встречал тех, кто знает. Здесь Гребенщикова знали наизусть и вообще всех питерских рокеров – их уважали больше, чем местных, из Свердловского рок-клуба. Но все же меньше, чем настоящих, английских. Как-то крутили Майка Науменко: «Никто не слышал «Stranglers», на топе только поп». Кто такие эти «Stranglers»? Из всей компании не знал один Штарк – тут же дали послушать.
Здесь наливали водку, а с девушками не только целовались. Иван не пил и вообще старался избегать шумных компаний. Он хотел учиться и двигаться дальше за солнцем. Он рисовал все время, всё, что видел. И даже стал иногда получать пятерки – за шар, конус, цилиндр.
Одновременно с Иваном в училище оказался оставшийся в очередной раз на второй год Саша Шабуров, знаменитый ныне участник группы «Синие носы». Он рисовал шар иначе, чем Иван: не штриховал тоненько, как полагалось по заветам Чистякова, а густо чернил лист карандашом 4М, а потом выбирал объем ластиком. Шабуров получал за это двойки. Но даже преподаватели знали, что он художник и что никакие корочки не помешают ему прославиться.
А Иван был отличником. Он не был склонен к эксцессам и экспериментам над собой. Но в Свердловске была совсем иная жизнь, чем дома. Училищное общежитие – барак на Шарташе – сгорело, и иногородним студентам пришлось искать жилье самостоятельно. Сорока пяти рублей повышенной стипендии с трудом хватало на еду. И Штарк поселился на Мурмарте.
Это был, конечно, не Монмартр, но почти. Островок старой кирпичной застройки в самом центре – улица Добролюбова, улица Чернышевского, – в десяти минутах от училища. Дома постепенно шли под снос. В выселенных жили студенты. Отопление было печное, туалет – во дворе, электричество – кинули провод от столба. ЖЭК знал, конечно, но не гнал: художников полезно иметь под рукой, когда нужно быстро и бесплатно обеспечить наглядную агитацию к празднику.
Теперь нет Мурмарта. Снесли. Неподалеку построили резиденцию полпреда. Все вымостили брусчаткой, сделали сквер, набережную. Офисы вокруг.
У Ивана на Мурмарте была целая двухкомнатная квартира на втором этаже. Первый врос в землю и постепенно превращался в подвал. Но в этом замке Штарк чувствовал себя как минимум герцогом. Ему было куда привести девушку – если бы девушка вдруг встретилась этому рыжему очкарику.
Девицы в училище носили много фенечек и мешковатую одежду. Они принципиально не красились и, кажется, не причесывались. Живописьки – прозвал их один первокурсник, поступивший после армии.
А еще была Софья.
Она тоже не признавала косметики и одевалась во все черное. Но бисер презирала. На шее у нее, на тонкой золотой цепочке, светилась огромная жемчужина, на которую было так удобно опускать глаза. Никто, даже пришедшие после армии «деды», не мог долго выдержать взгляд ее глаз, темно-серых, огромных, с ободком теплого зеленого вокруг радужки. Казалось, что она видит насквозь и знает тайное. И мальчики опускали глаза на жемчужину.