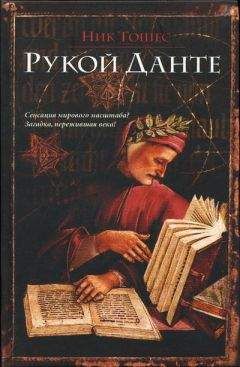Быть потрясенным и зачарованным — прекрасно. Смертный приговор и ссылка лишили поэта того, что положила перед ним мирская судьба. Вкусить богатства, затем лишиться его: такая потеря изнуряет и изматывает сильнее, чем любой физический труд. Потому как нет в этом мире человека, который не ценил бы и не лелеял богатство и увесистость кошелька. В сказках и баснях слово «золотой» повторяется бесконечно в превосходном по отношению ко всему прочему смысле — золотые слова и золотое солнце, золотое сердце и золотые годы, — и, бесконечно повторяясь в этом риторическом значении, оно искажает и отвергает то, что человек в своих измышлениях считает благородным и возвышенным.
Именно богатые наиболее убедительно твердят о богатствах духовной жизни и о никчемности мирских богатств, которые не приносят ни радости, ни спасения души. Но истина состоит в том, что если человек духовно един со Всем, если он способен радоваться и если ему надлежит найти путь к спасению, то земные богатства дают ему возможность жить свободно и полно духовно, в радости и во спасении. Как в древнеримские времена раб мог купить свободу, заплатив монетой за «вольную» грамоту, так и теперь человек приобретает за деньги свободу жить. Если буханка хлеба хорошая вещь, то так же хороши средства для ее приобретения, а еще лучше те, которые позволяют покупать ее всегда без всяких забот или отдавать ее тому, кто голодает.
Но вместо флорентийского золота у поэта не было теперь ничего, и он опустился до положения поденщика, нищего, исполняющего то, что велят другие. Да, он потерял все и теперь с горечью размышлял о том, как все могло бы быть. Именно поэтому было так хорошо испытать потрясение, очарование и свободу: ведь мечты о богатстве и выкупе давно умерли, а сам он превратился в монету, которой играют руки тех, кто богат. Этот мистический шум, крик и ор, захватившие его, как прежде захватило море, был «вольной» грамотой безденежного бедняка, чья свобода в жесте mano cornuta Пантократора, бедняка, принадлежащего непознаваемой тайне, ее пленника, бедняка, который таким образом был ее золотом, ищущим свободы в пламени духа, в пламени, способном растопить его, превратить золото в жидкую субстанцию, которая лишь на одно мгновение просочится сквозь стиснутые пальцы, прежде чем атмосфера этого материального мира отольет его снова в чью-то звонкую монету. И в том состояло потрясение, чтобы в какой-то миг, миг, когда мир вспыхнет ярким пламенем, можно было купить видение настоящей свободы, свободы без золота, о которой так любят на досуге потолковать озолоченные, и в тот миг, миг между плавлением и охлаждением, попасть в иной мир. В этом ином мире нет ни горечи утраты, ни раскаяния, ни жалости к самому себе, ни скорби по оставшемуся в том прежнем, своем мире.
Крик, отданный морю, очистил и опустошил поэта, поэтому теперь он наполнялся. Пусть у него не было богатств, но зато он владел Всем. И пусть он не мог раздать богатства, он мог раздать Всё, что было в нем[. Как раз в этот момент кто-то, возникший как призрак из дыма и теней, пламени и суеты, предложил поэту на деревянной палочке кусок мяса, еще шипящий, испускающий аромат и сочащийся кровью. Он вгрызся в него, как зверь, ощущая вкус и утоляя голод многих дней, а может быть, недель, и кровь барашка была сладкой на губах.
Потом второй призрак подал ему глиняную чашку с ароматным мясным отваром; затем предложил какого-то странного вина, которое одновременно гасило пламя и разжигало его, словно нарочно утоляя и пробуждая жажду; затем поэт получил еще мяса, комочек фиг и орехов, облитых медом, еще отвара, на этот раз голубя, и снова крепкого вина, обжигавшего и гасившего жар.
Как долго продолжалось это пиршество и безумие, поэт не знал, потому что звезды двигались не так, как предопределено небом ночи, но как в стремительном танце ускользающей грации.
Он добрался до двора глубокой ночью, идя на ощупь вдоль крепостных стен, пока не увидел горящий факел в железном канделябре, вделанном в массивный камень арки сторожевого портала. Хотя в сумке в него лежали litterae посольства и lettera di salvo condotto, он знал, что больше похож на человека, выброшенного из реки зловонных нечистот. Боясь прикасаться к документам и sicurta, дабы не испачкать их, он попросил стражника принять сначала сумку, чтобы можно было изучить письма, затем принять его, чтобы он мог получить комнату, помыться, побриться, отдохнуть и сменить одежду, чтобы затем, в свете дня, достойно явиться ко двору. Процедура переговоров затруднялась и затягивалась из-за языковых проблем. Во-первых, стражник не знал латыни, на которой были написаны письма. Во-вторых, сам стражник был испанцем, плохо говорившим на местном языке. И наконец, поэт, мало знавший язык Испании и с трудом прочитавший лишь несколько строчек на lingue di si, только теперь понял, что язык Сицилии не столько диалект, сколько самостоятельный язык, причем в высшей степени непонятный. В результате он пробормотал сколько-то путаных слов на латыни, добавил немного итальянских и испанских и даже бросил наугад кое-что на сицилийском, на что стражник ответил скороговоркой по-испански, затем прибег к корявому сицилийскому и завершил отважной попыткой на языке гостя. Все дело решила печать на письме, выглядевшая в высшей степени внушительно, это и тот факт, что поэт был один. Открыть ворота стражника побудила не доброта и не жалость к несчастному, а скорее страх перед возможным наказанием со стороны начальства, если проситель не будет пропущен. Так или иначе, тяжелые железные ворота открылись перед замершей тощей тенью.
Deus abscondita. Бог, сокрытый от человека. Я нашел его.
Поэту дали лодку, чтобы переправиться на остров.
Огонь башен порта Трапани исчез за его спиной во мраке ночи.
Море странным образом затихло и замолкло, когда громоздкие тени островов с арабскими названиями Рахиб и Газират аль-йа-Бисах выросли перед ним и ушли.
Когда лодка, обойдя мыс, взяла курс на древний остров, носивший старое арабское название Газират Малитимах, поэт почувствовал себя одним из проклятых, и сам остров, возникший в мерцании полумесяца, имел вид острова проклятых или мертвых, или того хуже.
Неестественно спокойное море позволило поэту выйти у прибрежных скал под извилистой тропой, ведущей вверх, к треугольному пику черной горы, на котором стояло нечто похожее на замок, частично вырубленный из самого черного камня, частично построенный из громадных кусков скалы, доставка которых на эту изолированную вершину представлялась невозможной и необъяснимой с точки зрения любой теории.
Ущербная луна давала мало света. Подъем был долгий и отнял много сил. Добравшись наконец до вершины, поэт почувствовал себя так, словно целью этого восхождения были звезды.
Слуга отвел его в комнату, где путник лег спать, а утром его отвели к старцу, которого он искал и которому передал книгу, полученную от еврея и имевшую на себе знак Тринакрии.
Окруженный великой роскошью, старец был одет крайне скромно.
Поэт молчал.
Старик тоже ничего не сказал.
Слуга поставил перед поэтом золотую чашу с кусочками сушеного сердца тунца, хлебом, земляникой и финиками в каштановом меду.
— Мое имя Данте Алигьери, — сказал поэт.
— А! — Старик улыбнулся. — Мой старинный друг в Венеции общается с хорошими людьми. Я восхищаюсь вами. Вы поместили Елену Троянскую в круг lussuriosi вашего Ада, а блудницу Раав перенесли в Рай. Вы превзошли Горация в употреблении слова cauda для обозначения membram, потом отправили его в первый круг Ада вместе с другими великими языческими творцами, никто из которых, насколько мне известно, не дал нам, как вы, такого яркого описания сношения человека со змеей. Да, я восхищаюсь такого рода вещами. К тому же прекрасно написанными. С нетерпением ожидаю завершения работы.
— Уж и не знаю, склонять ли мне голову с благодарностью или стыдом.
— Скажите, вы когда-нибудь имели сношение со змеей?
— Нет, а вы?
— Да. И клянусь всей святостью Мекки и всем золотом Мекки, я не сомневаюсь, что и вы тоже.
Поэт взглянул в глаза старика, не выдававшие никаких чувств.
— Итак. — Хозяин замка вздохнул. — Что вы ищете здесь? Могу ли я вам помочь?
— Он сказал, что вы видите будущее.
Старик долго молчал, все это время глядя в глаза гостю.
— Я отвечу на три вопроса. Приготовьте их тщательно. Я скажу, когда придет пора.
Прошел день, за ним другой. Рыбе и птице, зайцам и фруктам, казалось, не было конца. Луна, невидимая ночью, оставалась бледным призраком на дневном небе. С того места, где поэт ожидал ночи, его взгляду открывалось безбрежное море. Потом, когда небо начало темнеть, север сделался серым и розовым, а юг, за островами Газират аль-йа-Бисах и Рахиб, лазурным и фиолетовым; затем цвета юга и цвета севера сплелись, и облака замерли над волнами. Он не знал этого неба. Все сгустилось и потемнело. Потом почернело.