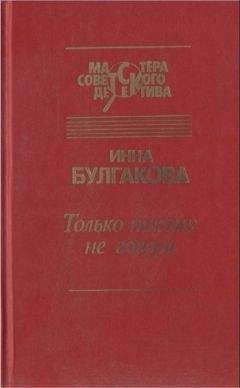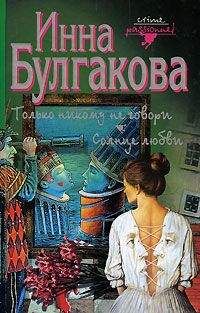— Алексей Романович, значит, вы разговаривали с моим мужем летом в прошлом году?
— Мне позвонил какой-то человек и представился как сын Максима. Второе явление из прошлого. Первое — в 57-м, когда я отказался встретиться с Ольгой Николаевной… Я только что вернулся из лагеря. Но меня ничто не оправдывает. Мы тогда, в пятидесятые, не довели дело до конца, не освободились духовно — и расплачиваемся сейчас. Если б я поспешил навстречу вашему мужу, убийства не было бы. Вот она, невыносимая истина!
— Но как же вы могли поверить, что ваш друг — предатель?
— Мне об этом говорил следователь, называл фамилии арестованных ребятишек с семинара Максима… Но дело не в этом! Я был готов поверить во что угодно: мы жили в искаженном мире, когда вековые законы и заповеди изгонялись и вытаптывались. Друг поверил в предательство друга, ученик предал своего учителя. К счастью, Дарья Федоровна, вам этого уже не понять.
— К счастью? Благодаря вам всем, вместе взятым, погиб мой муж. Здесь его письмо к вам.
Она протянула зеленую папку в голубых накрапах старику — глубокому старцу, высокому, изможденному, — в чем только держится его душа?
— Простите меня, — сказала она тихо.
Он прочитал медленно, шевеля губами, повторив концовку вслух:
— «Я — сын предателя — прошу последнего права: ответить за моего отца». И ведь он ответил.
Они долго молчали. Старик принялся листать рукопись, лицо преобразилось, засияли из-под седых бровей — сочувствием? жизнью? слезами? — ослепительно-синие глаза: однако есть еще огонь, есть!
— Боже мой! Ведь это Максим, я узнаю его… Блестящий, бесценный труд. Понимаете, он проследил по черновикам весь ход работы Пушкина над прозой… как бы это попроще?.. Словом, каким образом наш гений, изменяя компоновку предложений, убирая союзы и связки, создавал свою знаменитую краткую динамичную фразу. Неповторимый стиль, единственный в своем роде, — подражание невозможно. Да, русская проза началась с недосягаемого образца — воистину драгоценности!
— Вы ведь читали эти «Драгоценности»?
— Конечно, тогда же, в 57-м. Это была сенсация, все говорили: школа Мещерского. Лев Михайлович, еще почти юноша, сразу пошел в гору.
— Убийца!
— Да, да… И сам Максим с помощью своего сына разоблачил его. «Гости съезжались на дачу» — пушкинский пароль, таинственный отрывок, ключ к тайне понедельника.
Соня бессонница, сон. Роман
«Ибо крепка, как смерть, любовь»
«Песнь Песней»
«ЧЕРНЫЙ КРЕСТ»
(Судебный очерк)Черная лестница, зыбкая вонючая тьма, один пролет, другой, третий… тяжелая дубовая дверь, негромкий стук… тишина… неожиданно с протяжным скрипом дверь сама по себе открывается. Путь свободен!
Год назад Москва была возбуждена слухами о зверском убийстве.
Это случилось субботним утром 26 мая 1984 года в угловом доме номер семь по Мыльному переулку. Сияло солнце, дети играли в песочнице. Василий Дмитриевич Моргунков гонял голубей, еще трое соседей следили за стремительной стаей… вдруг этот безмятежный мир раскололся криком с третьего этажа, из квартиры Неручевых. Соня Неручева, восемнадцатилетняя студентка, кричала из раскрытого окна что-то бессвязное («как будто безумное», по позднейшим воспоминаниям свидетелей, запомнивших слово «убийца») и внезапно исчезла в глубине комнаты.
Соседи (среди них жених Сони — Георгий Елизаров) бросились на помощь.
Рассказ Моргункова: «Я крикнул: «Ребята! Бегите через парадное!» А сам рванул по черной лестнице. На площадке первого этажа столкнулся с соседом Антошей Ворожейкиным (тот возился с дверным замком своей квартиры), взбежал на третий этаж. Дверь к Неручевым приоткрыта, чуть-чуть покачивается, постанывает, как живая. Стало, знаете, не по себе. Вошел. Ну, картинка! За кухонным столом лежала Ада (Сонина мать), лицо в крови. На столе топор, к обуху пристали рыжие волосы, рядом полотенце, тоже в крови. Словом, кадр из фильма ужасов, мороз по коже, а в парадную дверь звонят, колотят — Егор с Ромой. Кинулся в прихожую, темно, споткнулся обо что-то на полу, упал. Человеческое тело, под руками что-то липкое — кровь. Поднялся весь в крови, отворил дверь, ворвались ребята, кто-то включил свет — мы увидели Соню. Только что она кричала из окна. И вот — изуродованный труп, вместо лица — кровавое месиво. Что творилось с Егором! Я крикнул, вдруг вспомнив: «Там, на лестнице, Антоша! Я только что видел! У него рубашка в крови!» На площадке темновато, но пятно на белой рубашке заметно, просто я не отдал себе отчета, не до того было. И вдруг вспомнил. Рома побежал к Ворожейкиным. Егор сидел неподвижно на полу возле убитой. Я стал звонить в милицию и Сониному отцу…»
Роман Сорин. «Убийство на улице Морг» Эдгара По дает некоторое представление. Везде кровь, все в крови, два обезображенных трупа. Кошмар. Как во сне я спустился на первый этаж, звоню, долго никто не открывает. Наконец дверь распахнулась. Антоша, по пояс голый, босиком. Я спросил почему-то шепотом: «Ты сейчас был у Неручевых?» Он смотрит как безумный. Вдруг побежал от меня прочь по коридору и заперся в ванной. «Открой! Открой! Открой!» Молчание. Только шум воды. Я разбежался, высадил плечом дверь, схватил его за ремень брюк и потащил наверх к Неручевым. Отвратительная сцена, я был на пределе. Увидев Соню, он закричал: «Нет! Нет! Нет!» — словно в истерике. Вскоре подъехала милиция, и мы сдали старого друга… Друг детства… Да, перед этим в квартиру поднялась Алена, Сонина подруга, соседка, — мы только что вчетвером у голубятни стояли. Ну, реакция ее понятна… Слегка опомнившись, она рассказала любопытную вещь. Картина начала проясняться. Однако до сих пор для меня непостижимо главное: как он мог пойти на это?..»
Алена Демина. «Я услышала крик из окна: Сонечка в своем любимом платье и алой ленте в волосах (у нее волосы рыжие, редчайшего медового оттенка), а лицо!.. искаженное от ужаса. Она кричала так дико, что… в общем, непонятно, страшно. Хотя я и не из пугливых, честно сказать. Мужчины побежали в дом, а я не могу. Бедная Соня. И Ада Алексеевна. Зачем я только пошла туда? Трупы, кровь… Василий Дмитрич с Ромой кричали на Антошу, а тот, полуголый, молчал. Зверь. Таких надо расстреливать безо всякого суда. И тут я вспомнила. Накануне, в пятницу, праздновали помолвку Сони с Егором, я помогала накрывать на стол и нечаянно услышала, как Антоша просил у Ады Алексеевны денег взаймы: очень срочно, жизнь зависит. «Приходи завтра утром», — ответила она. И вот он пришел…»
Соседка Серафима Ивановна Свечина. «Я вязала во дворе на лавочке. Детишки в песке возились, а Роман с Егором и Аленой возле Васиной голубятни стояли. Вдруг вижу: из тоннеля, что на улицу ведет, выглядывает Антоша (в белой рубашке и с черной «бабочкой», — стало быть, с работы отлучился, он официант в ресторане). Осмотрелся внимательно, шмыгнул за кусты, пробежал и скрылся в подъезде. Я удивилась… как вдруг крик: Сонечка Неручева с третьего этажа. В словах ее смысла не было, впрочем, не берусь судить, нет. Такое впечатление, будто она помешалась, видя, как смерть приближается…»
Герман Петрович Неручев. «Я появился в разгар следствия. И был вынужден опознавать трупы жены и дочери. Нетрудно представить мое состояние… нет, пожалуй, трудно — это надо пережить. Тем не менее я тогда же машинально отметил, что убийство (особенно Сонечки) было совершено с исключительной, граничащей с садизмом жестокостью — это просто бросалось в глаза. Мне предложили осмотреть квартиру: не пропало ли что-нибудь? Все оказалось на месте за исключением одной вещицы — любимого украшения жены: довольно большой серебряный крест на серебряной же цепочке, выложенный черным жемчугом. «Черный крест» — так называла его Ада…»
Старинная драгоценность почти сразу была найдена при обыске у Ворожейкиных: в кармане старого плаща в коридоре на вешалке. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев Антоши (как задушевно звучит, не правда ли?); по его же собственным словам, он пытался стереть их с орудия убийства полотенцем — и все же один-единственный отпечаток (кровавая мета!) на топорище остался.
Итак, преступник полностью изобличен, справедливость восстановлена, наши нравственные чувства, казалось бы, удовлетворены. Ну а вопрос, высказанный Романом Сориным: как он мог пойти на это?
Как он мог?.. «…Боже! — воскликнул он. — Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором?.. Господи, неужели?..» Санкт-Петербург, Родион Раскольников, старуха процентщица и Лизавета — аналогия напрашивается сама собой. Но — другие времена, другие нравы: наш «сверхчеловек» (нет, «тварь дрожащая»!) не раскаялся, он даже не сознался в убийстве беззащитных женщин. Последнее слово подсудимого перед вынесением приговора: «Я невиновен.