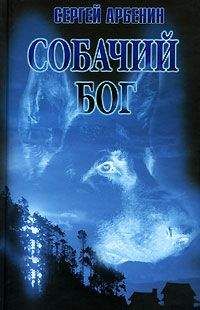— Обыскать двор! — крикнул кто-то командирским тоном. — Трупы собак сюда, к свету!
Солдаты схватили подстреленных собак, вытащили на середину двора и уложили на развернутый брезент. Сюда же бросили и третью.
И тут внезапно началось: шкуры рвались, расползаясь, будто по швам. Из-под шкур появлялись залитые кровью человеческие тела.
Наташка дико вскрикнула, заголосила другая цыганка, отворачиваясь и защищая лицо поднятой рукой, в которой было ружье.
Лица цыган стали белыми. Даже солдаты попятились.
Шкуры постепенно сползли совсем; на почерневшем от крови брезенте остались лежать трое убитых мужчин — в нелепых позах, со скрюченными руками, широко открытыми мертвыми глазами.
Но вот одна из шкур шевельнулась, приподнялась, дотянулась до трупа и припала к нему. Послышались чавканье и хруст. Брызнула кровь. Человек начал исчезать; шкура быстро и ловко грызла его, отхватывала громадными кусками и глотала, сокращаясь змеёй.
Потом ожила вторая шкура, потом и третья. Хруст и чавканье усилились.
Испуганный голос скомандовал что-то невразумительное. Цыган оттеснили от расстеленного брезента солдаты. Встали кругом. И разом открыли огонь.
В грохоте и дыму полетели вверх клочья шкур, куски мяса; дым стал красным от крови.
Стрельба длилась долго, бесконечно долго, — по крайней мере, так казалось всем, находившимся во дворе.
Едва собаки бросились в атаку, Густых выскочил из укрытия, и гигантскими прыжками понёсся к дому, держась ближе к забору. В руке он держал короткий обрезок арматуры, найденный в укрытии. Здесь стеной стоял высокий, выше человеческого роста, высохший бурьян, полузасыпанный снегом, бежать по нему казалось невозможным, но Густых в несколько секунд перебрался через бурьян и добежал до дома. Юркнул за угол.
Тут царил густой мрак, но зрение Ка обострилось. Он мгновенно увидел раму дальнего, темного окна. Рама была выкрашена белой краской, и на её фоне отчетливо виднелись загнутые большие ржавые гвозди, которые и держали раму. Молниеносно и умело, будто занимался этим всю жизнь, Густых отогнул гвозди, тем же обрезком арматуры поддел раму снизу, потом — с боков. Аккуратно вынул ее и поставил в заросли бурьяна.
Второй рамы не было: на дровах здесь явно не экономили.
Когда началась стрельба, Густых уже влезал в оконный проем.
Соскользнул с подоконника, увидел небольшую комнату с двумя лежанками, и дверной проем. За ним была еще одна комната, и Густых с облегчением увидел в ней несколько шкафов.
Он открыл один из них — самый большой, как ему показалось, трехдверный, под потолок. Он уже протянул руку, чтобы освободить от тряпья пространство, в котором мог бы уместиться.
План его был прост: он дождётся, сидя в шкафу, когда шум уляжется и Дева вернётся в дом. Вот тогда-то он и выполнит, наконец, предназначенное ему Искупление.
В комнате вспыхнул свет.
Густых зажмурился на мгновенье, а когда открыл глаза, увидел молодого человека в куртке, но без шапки, с густыми локонами волос. В руке молодой человек держал «Стечкина», а дуло его было направлено в грудь Густых. За молодым человеком маячил еще кто-то, постарше, — белобрысый, с измятым небритым лицом, с расширенными от страха глазами.
— Владимир Александрович, поднимите, пожалуйста, руки, — внятно сказал молодой человек.
Это «пожалуйста» и обращение по имени-отчеству подействовали на Густых завораживающе. Он повернулся и медленно поднял руки.
— Повернитесь ко мне спиной, — сказал молодой, и добавил еще мягче: — Будьте так добры.
Густых хотел было возразить, но ничего умного в голову не пришло. Да и голова мгновенно опустела.
Он повернулся. Прямо перед ним, за широким дверным проемом, чернел квадрат выставленной оконной рамы. Было довольно соблазнительно нырнуть в него и раствориться в темноте. Но ведь тогда не состоится, или, по крайней мере, будет снова отложено на неопределенный срок Искупление.
— А теперь я попрошу вас, — тем же настойчивым, но любезным голосом сказал молодой, — лечь на пол лицом вниз. Сначала, чтобы вам было удобно, встаньте на колени. Руки — на спину. Если вас это не затруднит.
Густых, окончательно сбитый с толку, выполнил и это нелепое приказание.
Лежа, прижавшись щекой к крашеному полу, Густых, наконец, сообразил, что он должен сказать:
— Кто ты такой, чтобы командовать мной?
— Вы, Владимир Александрович, в розыске уже несколько часов. В чём вы обвиняетесь, — не знаю. Но приказ отдан, и я его исполняю.
Тут он сказал тому, что стоял позади:
— Давай, свяжи ему руки. Покрепче попрошу.
Густых вытерпел и это унижение. Белобрысый связал его на совесть, перетянув кисти рук чем-то вроде вожжей.
— А теперь мы посидим и подождём, — сказал молодой. — Слышите, Владимир Александрович? Осталось совсем недолго.
Стрельба за домом, отдававшаяся гулким эхом в маленькой пустой комнате, затихла. Со двора доносились непонятные крики.
Потом захлопали дальние двери: в комнату входили люди. И Густых внезапно почуял запах Девы.
И все остальное для него исчезло: ни множество голосов, ни грохот сапог, ни даже этот юный, с едва отросшими усиками, человек с пистолетом, — ничто не могло отвлечь или помешать ему.
Густых напряг руки. Но вожжи были слишком крепкими. Они трещали, но не рвались.
И тогда руки Густых стали удлиняться, расти…
Одновременно он перевернулся с живота на спину и увидел, что молодой пятится к выходу, пистолет в его руке ходит ходуном, а белобрысого вообще не стало. Густых поднял колени, вытянул руки из-за спины и начал подниматься. Одновременно он рвал руки из пут. Ему удалось ослабить узлы, и тогда он напрягся в полную силу. Путы стали истончаться и лопаться, разлетаясь отрезками кожи. Это, кстати, были не вожжи. Это была конская сбруя.
Он встал. Выстрел, ударивший его в грудь, лишь отбросил его, но не остановил. Густых рванулся вперед, одним движением руки смахнув молодого с дороги, и бросился туда, откуда раздавались громкие голоса, и цыганская речь мешалась с русским крепким матом.
Он влетел в комнату, забитую людьми, так неожиданно, что никто не успел ему помешать. Он сразу же увидел деву, сидевшую на низком диванчике, застланном ковром. Тех, что стояли у него на пути, он посшибал, не останавливаясь, как кегли. Ещё мгновение — и его руки дотянулись до горла Девы. Она вскрикнула, и смолкла.
Кто-то стрелял. Потом цыгане резали его ножами. Его тащили за ноги, пинали и били чем попало: старая цыганка, например, била его по голове сковородой.
Потом один из цыган сбегал в сени, вернулся с топором, предупреждающе крикнул. И одним ударом почти отсек руку Густых. Еще несколько ударов, — и руки перестали ему принадлежать. Густых упал на ковёр, морщась от вида собственных обрубков, торчавших из пробитых рукавов. Но он был спокоен, абсолютно спокоен: его Ка сосредоточилось в руках, и руки сделают своё дело.
Тело Густых вытянулось и обмякло.
Искупление состоялось.
Дева лежала на диване, раскинув руки и некрасиво скрестив ноги. Две быстро чернеющие руки намертво впились в её нежное девичье горло.
Она шевельнулась. И открыла глаза.
Три волка улепетывали по заснеженному редколесью от страшной гудящей птицы. Волки были молодыми, неопытными, и к тому же еще ни разу не встречались с таким врагом.
Вокруг них взрывали снег горячие пули, — огненные, молниеносные, как сама смерть.
Волки не знали и не могли знать, можно ли бороться с такой огненной смертью, и можно ли от неё спрятаться.
Впереди было болотистое озерцо, и у первого волчонка, выбежавшего на лед, сразу разъехались лапы. Он ткнулся мордой в лёд, задержавшись на мгновение. И в это самое мгновение жгучая невидимая молния ударила его между лопаток. Волчонок охнул от неожиданности, отлетел и замер.
Остальные перескочили через него и помчались дальше. Лапы скользили, волчат бросало из стороны в стороны.
Шуфарин, заместитель начальника лесного управления, с удовольствием крякнул:
— Один есть! — и показал большим пальцем вниз.
Его напарник, — он же подчиненный, — кивнул.
Шуфарин снова приложился глазом к окуляру прицела. У него был новенький навороченный карабин, и сам себе он казался в этот момент лихим героем американского боевика. Правда, вертолет был совсем не таким, как в кино: нечего было и думать картинно выставлять ногу на подножку, трудно было даже высунуться наружу, — ветер мгновенно обжигал щёки морозом.
Он выстрелил трижды, и ни разу не попал: на этот раз скользкий лёд оказался союзником волков, — они совершали непроизвольные броски, виляли задами, а то и кружились, распластавшись на брюхе.
Наконец, и второй волк упал, закинув лапы.
Последний, кажется, понял, что убегать бесполезно. Он присел, прижав уши к голове и глядя на ужасную стрекочущую птицу, висевшую над ним.