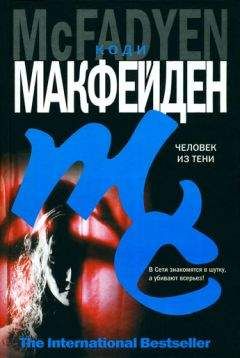Я нахожусь в зоне. Это такое место, куда я попадаю в конце охоты, когда я знаю, на самом примитивном уровне, что охота близка к завершению. Все чувства обостряются невероятно, у меня такое ощущение, что я опрометью бегу по рояльной струне, протянутой над пропастью. Бегу уверенно, не боясь упасть.
Пока мы едем, я смотрю на Дона и вижу искорки надежды в его глазах. Он посмел снова надеяться. Для него неудача может оказаться чем-то большим, нежели разочарование. Она может обернуться крушением личности. Тем не менее он выглядит на десять лет моложе. Глаза у него чистые, взгляд сосредоточенный. Таким, наверное, он был двадцать пять лет назад.
Мы, сыщики, сродни наркоманам. Мы шагаем по крови, через разложение и вонь. Мы видим кошмарные сны, вызванные ужасными сценами, с которыми разум не в состоянии смириться. Мы вымещаем это все на себе или окружающих. Но когда дело подходит к концу, мы испытываем кайф, с которым ничто не сравнится. Этот кайф заставляет нас забыть про вонь, кровь, ужасы и ночные кошмары. И когда все остается позади, мы готовы к новому расследованию.
Разумеется, дело порой оборачивается против нас. Мы терпим неудачу и упускаем убийцу. Душок остается, нет самоудовлетворения. Но даже тогда мы продолжаем работать, надеясь на счастливый случай.
Можно сказать, мы работаем на краю пропасти. Среди нас очень большой процент самоубийств. Мы погибаем под грузом ответственности.
Я осознаю все это, но мне наплевать. Сейчас шрамы не имеют значения. Потому что я в зоне. В двух шагах от убийцы.
Меня всегда завораживали книги и фильмы о серийных преступниках. Писатели и режиссеры очень часто полагают, что они должны выложить дорожку из хлебных крошек для своих героев. Выстроить ряд дедуктивных выводов и улик, которые ведут в логово монстра.
Иногда бывает и так. Но обычно — нет. Я помню дело, которое едва не свело нас с ума. Некто убивал детей; прошло три месяца, а у нас ничего на него не было. Ни одной надежной улики. Однажды утром мне позвонили из полицейского управления Лос-Анджелеса и сообщили, что он явился с повинной. Дело закрыли.
В случае с Джеком-младшим мы использовали все приемы. Он ведь переодевался, устанавливал «жучки», вербовал последователей, вел себя умно.
И в итоге раскрытие дела оказалось в зависимости от двух факторов: куска говядины и нераскрытого преступления двадцатипятилетней давности.
За годы работы я научилась довольствоваться только одной правдой: пойман — значит пойман, и это хорошо. Точка.
Звонит сотовый Алана.
— Слушаю, — говорит он.
Его глаза закрываются, и меня пронизывает страх, но они снова открываются, и в них облегчение.
— Спасибо, Лео. Я очень признателен тебе за звонок. — Алан отключается. — Келли еще не пришла в себя, но врачи считают ее состояние уже не критическим, а стабильным. Она по-прежнему в реанимации, но врач сказал Лео, что о смерти речь уже не идет, разве что произойдет что-то неожиданное.
— Келли справится. Она чертовски упрямая, — говорю я.
Джеймс не отвечает. Мы в молчании едем дальше.
— Приехали, — тихо говорит Дженни Чанг.
Дом старый, слегка обветшалый. Двор не ухожен, но не совсем запущен. Такое впечатление, что все катится вниз, но пройдено пока лишь полпути. Мы выгружаемся из машины и идем к входной двери. Она открывается прежде, чем мы успеваем постучать.
Патриция Коннолли выглядит старой и уставшей. Но несмотря на усталый вид, глаза у нее ясные. В них плещется страх.
— Наверное, вы из полиции, — говорит она.
— Да, мэм, — отвечаю я. — Кто из полиции, кто из ФБР. — Я показываю ей свое удостоверение, представляюсь и представляю других. — Не могли бы мы зайти, миссис Коннолли?
Она сдвигает брови и смотрит на меня:
— Можете, если перестанете называть меня миссис Коннолли.
Я удивлена.
— Конечно, мэм. Как вы хотите, чтобы я вас называла?
— Мисс Коннолли. Коннолли — моя девичья фамилия. Не хочу иметь ничего общего с покойным мужем, чтоб ему гореть в аду. Входите.
В доме чисто и опрятно, но абсолютно безлико. Как будто за порядком следят просто по привычке. Все видится в двух измерениях.
Патриция Коннолли проводит нас в гостиную и жестом предлагает сесть.
— Что-нибудь желаете? — спрашивает она. — Могу вам предложить только воду и кофе.
Я смотрю на свою команду. Все отрицательно качают головами.
— Благодарю вас, мисс Коннолли. Не беспокойтесь.
Она кивает и смотрит вниз, на свои руки.
— Ладно, тогда почему бы вам не объяснить, зачем вы приехали?
Говоря эти слова, она продолжает смотреть на руки, не хочет встречаться с нами глазами. Я решаю действовать так, как велит мне инстинкт.
— Почему бы вам самой не сказать, зачем мы здесь, мисс Коннолли?
Она резко поднимает голову, и я вижу, что не ошиблась. В ее глазах — вина.
Но говорить она еще не готова.
— Понятия не имею.
— Вы лжете, — говорю я и поражаюсь резкости собственного тона.
На лице Алана удивление.
Но я ничего не могу поделать. Я полна гневом, он уже перетекает через край. Я наклоняюсь вперед, ловлю ее взгляд. Тычу в нее пальцем:
— Мы здесь из-за вашего сына, мисс Коннолли. Мы здесь из-за матери, моей подруги, которую он изнасиловал и которой вспорол живот, как оленю. Из-за ее дочери. Она провела три дня, потому что он привязал ее к телу мертвой матери. — Я начинаю говорить громче. — Мы здесь из-за мужчины, который пытает женщин. Из-за нашего агента, тоже моей подруги, которая сейчас в больнице и может остаться на всю жизнь инвалидом. Мы здесь…
Она вскакивает, схватившись за голову руками.
— Прекратите! — кричит она. Руки опускаются и бессильно висят вдоль тела. — Просто… прекратите.
Теперь она напоминает воздушный шарик, который сдулся и медленно падает на землю. Она снова садится и вздыхает.
— Вы полагаете, что знаете, зачем сюда приехали, — говорит она, глядя на меня, — но это не так. Вы думаете, что вы приехали из-за этих несчастных женщин. — Она смотрит на Дона Роулингса. — Или из-за той бедной девушки, которой нет уже двадцать пять лет. Это только маленькая часть. Вы сюда пришли из-за чего-то куда более древнего.
Я могу перебить ее, рассказать о куске говядины в банке и Джеке-младшем, но что-то подсказывает мне, что не следует ей мешать.
— Даже смешно, как мы умудряемся просмотреть главное в людях. Даже в тех, кого любим. Наверное, это несправедливо. Если человек бьет жену или делает куда более страшные вещи, то этому всегда что-то предшествует. Верно?
— Я сама часто думаю об этом, мэм, — говорю я. — В связи с моей профессией.
— Наверное, — соглашается она. — Тогда вы знаете, что на самом деле все по-другому. Совершенно. Более того, порой вы получаете прямо противоположное. Самые некрасивые люди могут оказаться самыми порядочными. А под внешностью очаровательного мужчины может скрываться убийца. — Она пожимает плечами: — Внешность вовсе не показатель.
Разумеется, когда вы молоды, вас такие вещи не волнуют. Я познакомилась с Кейтом, когда мне было восемнадцать лет. Ему было двадцать пять, и я никогда раньше не встречала таких красивых мужчин. И это не преувеличение. Шесть футов роста, темные волосы, лицо киноактера. Когда он снял рубашку… Ну, давайте скажем, что тело было под стать лицу. — Она печально улыбается. — Когда он проявил ко мне интерес, я ужасно смутилась. Ведь я была убеждена, что ничем не примечательна. А он был так красив. Парень что надо. — Она обводит нас взглядом. — Все это случилась в Техасе, я ведь, надо сказать, родилась не в Калифорнии. — Она смотрит куда-то вдаль. — Техас. Плоский, жаркий и скучный.
Кейт долго ухаживал за мной. Я его не подпускала, не хотела, чтобы он решил, будто я доступна. Тогда я этого не знала, но он видел меня насквозь, как будто я была стеклянной. Он подыгрывал мне, делал все нужные телодвижения, потому что это его забавляло. Он мог бы схватить меня и приказать следовать за ним, и я бы послушалась. Он это знал и тем не менее несколько раз приглашал меня на свидания. Ради приличия.
Он все делал хорошо. Он умело притворялся, что не монстр. Он был идеальным джентльменом и романтиком, как будто явился прямиком из кино или книжек, которые мне нравились. Добрый, романтичный, красивый. Я решила, что нашла идеального мужчину. Того самого, о котором мечтает каждая молодая женщина, которого она, по ее мнению, заслуживает. — И голос, и улыбка Патриции пропитаны горечью. — К вашему сведению, жизнь дома у меня была трудной. У папочки был взрывной характер. Не то чтобы он бил мать ежедневно или еженедельно, но раз в месяц обязательно. Я видела, как он отвешивает ей оплеухи или бьет кулаком практически постоянно. Он никогда не трогал меня, но позднее я поняла, что он этого не делал не потому, что не хотел меня ударить. Просто он знал, что если он меня коснется, то побудительной причиной будет не насилие. — Она поднимает на меня глаза. — Вы понимаете?