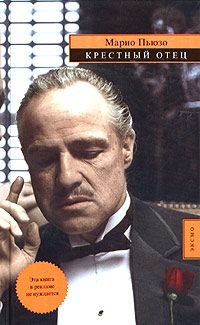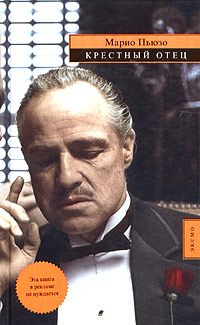Эти расправы не имели смысла, потому что они не могли повлиять на исход войны. Санни был блестящий тактик и одержал ряд отдельных блистательных побед. Но только сейчас требовалось иное ― гений такого стратега, как дон Корлеоне. Война выродилась в партизанщину, опустошительную и бесплодную: обе стороны теряли людей и доходы, а дело не двигалось с места. Кончилось тем, что семья Корлеоне вынуждена была прикрыть несколько самых прибыльных букмекерских точек, включая и ту, в которой пробавлялся трудами хозяйский зять, Карло Рицци. Карло загулял: напивался, проводил время с певичками из ночных клубов и устраивал своей жене Конни веселую жизнь. После избиения, которому он подвергся от рук Санни Корлеоне, он не осмеливался больше бить жену ― он перестал с ней спать. Конни кидалась ему в ноги, и он, мысленно видя себя римлянином, с изощренным патрицианским наслаждением отвергал ее.
― А ты братана позови, ― куражился он, ― скажи, что муж тебя не желает трахать, пускай он отлупцует меня ― глядишь, и придет охота.
На самом деле он жил в смертельном страхе перед Санни, хотя держались они друг с другом с холодной вежливостью. Карло хватало ума сознавать, что Санни убьет его и не поморщится, что Санни из тех, кто может убить другого человека с бестрепетностью, свойственной животным, меж тем как самому ему, чтобы совершить убийство, потребовалось бы призвать на помощь все свое мужество, всю силу воли. Карло и в голову не приходило, что он по этой причине лучше, чем Санни Корлеоне, если здесь применимо это слово, ― наоборот, он завидовал тому, что Санни обладает этой звериной жестокостью ― жестокостью, о которой начинали уже слагать легенды.
Том Хейген как consigliori не одобрял тактику, избранную Санни, и все же решил не излагать своих возражений дону ― по той простой причине, что все же в известной мере тактика эта себя оправдывала. В ходе войны на измор Пять семейств как будто несколько образумились ― их контрудары становились все слабей и в конце концов прекратились вовсе. Хейген на первых порах не склонен был доверять этим свидетельствам вражеского смирения, но Санни ликовал:
― Поддам еще жару, и эти сволочи сами приползут к нам клянчить о мире.
Санни волновало другое. Возникли сложности с женой ― до нее дошли слухи, что ее мужа приворожила Люси Манчини. И пусть на людях она отпускала шуточки насчет особенностей телосложения своего Санни и приемов, которым он отдавал предпочтенье, он лишил ее своего внимания слишком надолго, ей недоставало его в постели, и она сильно портила ему жизнь беспрестанными упреками.
Санни и без того, как человек меченый, жил в постоянном напряжении. Вынужден был скрупулезно рассчитывать всякое свое движение, притом он знал, что относительно его поездок к Люси Манчини у неприятеля все схвачено. Тут, правда, он прибегал к мерам сугубой предосторожности, поскольку ситуация представляла собой традиционно уязвимое место. Тут ему ничего не угрожало. Люси, сама того не подозревая, двадцать четыре часа в сутки находилась под наблюдением людей из regime Сантино, и стоило на ее этаже освободиться квартире, как ее немедленно снимал кто-нибудь из самых надежных его подчиненных.
Дон выздоравливал, близилось время, когда он вновь сможет стать к кормилу власти. И уж тогда, верил Санни, исход сражения должен определенно решиться в пользу семейства Корлеоне. А до тех пор он будет охранять границы семейных владений, чем заслужит уважение отца и ― так как титул дона необязательно передается по наследству ― подтвердит основательность своих притязаний на роль преемника империи Корлеоне.
Однако и неприятель тем временем строил планы. Он тоже тщательно изучил обстановку и пришел к выводу, что единственный способ избежать полного поражения ― это убрать Санни Корлеоне. Неприятель теперь лучше разобрался в положении вещей и полагал, что с доном, который славится здравомыслием и рассудительностью, поладить будет проще. Санни снискал себе во вражеском стане ненависть своей кровожадностью ― ее расценивали как варварство. И как черту, выдающую неделового человека. Никому не было расчета возвращаться к прежним временам ― временам смуты и тревог...
Однажды вечером у Конни Корлеоне раздался телефонный звонок; девичий голос, не называя себя, попросил позвать Карло.
― А кто говорит? ― спросила Конни.
Девица хихикнула.
― Да так, одна его знакомая. Я только хотела предупредить, пусть он сегодня не приходит. Мне нужно съездить за город.
― Ах ты, шлюха, ― задохнулась Конни. ― Шлюха, тварь бесстыжая! ― закричала она в телефон.
В трубке щелкнуло, наступила тишина.
Карло с полудня закатился на бега и пожаловал домой поздно вечером, злой от невезенья и полупьяный ― он теперь постоянно носил при себе бутылку виски. Не успел он переступить порог, как Конни накинулась на него с бранью. Карло, точно не слыша, направился принимать душ. Потом вышел, голый, растерся у нее на глазах полотенцем и принялся наводить фасон, явно куда-то собираясь.
Конни стояла подбоченясь, с белым, осунувшимся от ярости лицом.
― Зря стараешься, ― сказала она. ― Звонила твоя приятельница ― передать, что сегодня ей неудобно. Как же у тебя, скотина, хватает наглости давать своим девкам мой телефон! Убила бы тебя, подлец, собака...
Она налетела на мужа, толкая его, царапая ногтями.
Карло отстранил ее мускулистой, согнутой в локте рукой.
― С ума не сходи, ― проговорил он холодно. Но она видела, что он смешался, как если б знал, что шальная девица, с которой он крутит, и впрямь способна такое выкинуть. ― Это дура какая-нибудь, смеха ради.
Конни увернулась в сторону от его руки и заехала ему по лицу, расцарапав ногтями щеку. Он с поразительным терпением лишь оттолкнул ее от себя. Она заметила, что он сделал это осторожно, считаясь, видимо, с тем, что она беременна, ― и осмелела, разжигая в себе негодование. Но и возбуждаясь тоже. Скоро ей ничего будет нельзя, врач сказал, в последние два месяца ― полное воздержание, но ведь они еще не наступили, а она истомилась уже от воздержания. Что не умеряло в ней жгучего желания причинить Карло физическую боль. Она пошла следом за ним в спальню. Он почему-то побаивался ― видя это, Конни исполнилась презрительного торжества.
― Будешь сидеть дома, ― сказала она. ― Никуда не пойдешь.
― Ладно, ладно, уймись, ― сказал Карло. Он был по-прежнему не одет, в одних трусах. Ему нравилось ходить по дому в таком виде, красуясь своим широкоплечим и стройным торсом, золотистой кожей. Конни глядела на него голодными глазами. Он делано засмеялся: ― Пожрать-то мне дашь, по крайней мере?
Напоминание о супружеских обязанностях, во всяком случае одной из них, слегка усмирило ее. Конни отлично стряпала, переняв это умение от матери. Она обжарила телятину с перцем, поставила томиться на медленном огне и принялась делать салат. Карло тем временем растянулся на кровати, изучая программу завтрашних бегов и поминутно прикладываясь к стакану виски.
Конни зашла в спальню, остановилась в дверях, точно не решаясь приблизиться к кровати, пока не позовут.
― Иди, еда на столе, ― сказала она.
― Неохота пока, ― ответил он, не отрываясь от программы.
― Но еда уже на столе, ― упрямо повторила Конни.
― Ну и ступай, подавись ею! ― Карло допил то, что оставалось в стакане, и наклонил бутылку, наливая еще. На жену он больше не обращал внимания.
Конни вернулась на кухню, собрала полные тарелки и с размаху шваркнула о раковину. На грохот Карло выскочил из спальни. Опрятный до привередливости, он брезгливо передернулся при виде кухонных стен, заляпанных жирными шматами телятины и перца.
― Сию минуту убери, паскуда, ― сказал он злобно. ― А то гляди, выбью из тебя дурь, мне недолго.
― Черта с два, дожидайся. ― Конни выставила вперед скрюченные пальцы, словно готовясь изодрать ногтями его обнаженную грудь.
Карло пошел назад и через минуту появился, держа в руках сложенный вдвое кожаный ремень.
― Уберешь или нет? ― В его голосе слышалась неприкрытая угроза. Конни не шелохнулась, и он огрел ее два раза по тугим бокам ― не очень больно, но чувствительно. Конни попятилась к кухонным шкафам у стены, рука ее скользнула в ящик и вытащила длинный хлебный нож. Она удобнее взялась за черенок.
Карло усмехнулся:
― У Корлеоне даже бабы ― убийцы.
Он положил ремень на стол и подошел ближе. Конни попыталась сделать выпад вперед, но ее отяжелевшее тело двигалось неуклюже, и Карло успел увернуться от удара, с такой зловещей решимостью нацеленного ему в пах. Он с легкостью обезоружил ее и принялся неторопливо, размеренно отвешивать ей оплеухи ― вполсилы, чтобы не разбить лицо в кровь. Она отступала за кухонный стол, пытаясь укрыться от пощечин, и постепенно он загнал ее в спальню. Она попыталась было вцепиться ему в руку зубами, но он, сгребя ее за волосы, задрал ей голову кверху и продолжал хлестать по щекам, пока от боли и унижения она не расплакалась, как девчонка. Тогда он пренебрежительно швырнул ее на кровать, а сам опять припал к бутылке, стоящей на тумбочке. Видно было, что он уже сильно пьян ― в его посветлевших голубых глазах появился сумасшедший блеск, ― и Конни сделалось по-настоящему страшно.