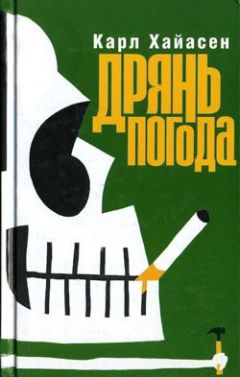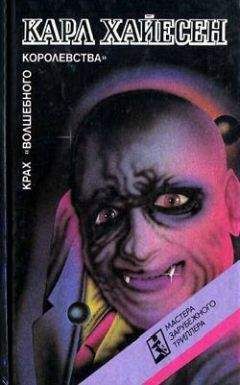– Впечатляет, – улыбнулся Джим.
– И вот через тридцать два года – новый шторм и новое начало. Парень родился под несчастливой звездой, тебе не кажется?
– Ну ты и трепло, – ласково усмехнулся патрульный. – Что за история с его отцом?
– Контрабандист. Как оказалось, бездарный.
Джим помолчал.
– Знаешь, мне парень нравится. Он правильный.
– Это точно.
Полицейский включил «дворники». Яркое пончо двигалось – муж Бонни вскочил и расхаживал взад-вперед.
– А вот ему я не завидую, – сказал Джим.
Сцинк дернул плечом. Он все еще не простил Максу съемки в Майами.
– Покажи, куда попала пуля.
Полицейский расстегнул рубашку и оттянул повязку. Даже через жилет пуля наградила Джима фиолетовым кровоподтеком на груди. Губернатор присвистнул:
– Вам с Брендой нужен отпуск.
– Врачи говорят, дней через десять ее выпишут.
– Увези ее на острова, – предложил губернатор.
– Она никогда не была на Западе. Лошадей любит.
– Тогда езжайте в горы. В Вайоминг.
– Да, ей понравится.
– Поезжайте куда угодно, Джим. Главное – подальше отсюда.
– Да уж. – Патрульный выключил «дворники». Ливень заливал стекло, как сироп. О Щелкунчике не говорили.
– Который из них? – спросил Макс, надеясь, что это похититель – он еще безумнее второго. Такой вариант подкрепил бы его теорию, что жена лишилась рассудка: стокгольмский синдром[78] с поправкой на дрянную погоду. Такое легче принять и объяснить друзьям и родственникам. Бонни загипнотизировал обезумевший от наркотиков отшельник. Этакий Мэнсон без Семьи.
– Макс, проблема – во мне, – сказала Бонни, хотя понимала, что это не совсем так.
Увидев мужа, вылезавшего из полицейской машины, она подумала, что он выглядит как маленький болотный кролик, который пыжится предстать стофунтовым лесным волком.
– Бонни, тебе промыли мозги, – говорил Макс.
– Никто…
– Ты спала с ним?
– С кем?
– С кем-то из них.
– Нет! – Наигранным возмущением Бонни пыталась скрыть ложь.
– Но хотела. – Макс встал. Дождевые капли бусинами покатились с пластикового пончо. – Значит, нужно так понимать, что ты предпочитаешь это, – презрительный жест, – жизни в городе?
– Мне бы хотелось увидеть крокодильего детеныша. Только это я и сказала.
Бонни понимала, насколько оскорбительно это звучит для человека вроде Макса.
– Он заставил тебя курить ту дрянь, да?
– Перестань.
Макс расхаживал взад-вперед.
– Не могу в это поверить.
– Я тоже. Прости меня.
Макс набычился и зашагал к воде. Злость не позволяла расплакаться, а обида – упрашивать. Больше того, забрезжила мысль: вероятно, Бонни права – он плохо ее знает. Даже если она передумает и вернется с ним в Нью-Йорк, он будет жить в постоянной тревоге перед ее новым закидоном. Произошедшее поломало их отношения. Возможно, навсегда.
Макс обернулся и произнес глухим от обиды голосом:
– Я считал тебя более… уравновешенной.
– Я тоже.
Возражения только затянут дело. Бонни решила быть уступчивой и признавать свою вину, что бы Макс ни говорил. Пусть у него что-то сохранится: если не гордыня, то раздутое ощущение мужского превосходства. Это невысокая цена, чтобы помочь ему пережить боль.
– Последний шанс, – сказал Макс и, порывшись под накидкой, вытащил два билета на самолет.
– Извини, – покачала головой Бонни.
– Ты меня любишь или нет?
– Макс, я не знаю.
Он засунул билеты обратно.
– Невероятно!
Бонни встала с перил и поцеловала мужа на прощанье. У нее текли слезы, но Макс, наверное, их не заметил на залитом дождем лице.
– Позвони, когда разберешься в себе, – язвительно сказал он.
Макс в одиночестве вернулся к полицейской машине. Сцинк придержал для него дверцу.
На обратном пути Макс молчал, чтобы патрульному стало стыдно. Дружок маньяка, похитившего самого Макса и задурившего голову его жене. Ведь полицейский был обязан по закону и совести остановить обольщение – или хотя бы сделать попытку. Такова была личная точка зрения Макса.
Когда машина подъехала к заколоченному «Макдоналдсу», он сказал:
– Присмотрите, чтобы этот одноглазый псих о ней хорошенько заботился.
Макс старался говорить весомо и грозно, и в другое время Джима позабавила бы его спесивость. Но сейчас он сочувствовал человеку, которого ждали дурные вести.
– Она больше никогда не увидится с губернатором, – сказал Джим. – Сегодня последний раз.
– Но как же…
– Мне кажется, вы перепутали. Она запала на парня с черепами.
– Господи… – в отвращении скривился Макс.
Отъезжая, Джим видел в зеркало, как Макс мотается под дождем по стоянке, топает по лужам и размахивает руками под ярким пончо, словно огромная светящаяся летучая мышь.
Бонни с губернатором прошли с милю, когда на тропе появился Августин. Бонни бросилась к нему. Они все еще обнимались, когда Сцинк наконец заявил, что идет в лагерь.
Августин повел Бонни к бухте. Они нашли на берегу сухое местечко и сели. Увидев у Августина книжку из библиотеки Сцинка, Бонни схватилась за грудь, будто собиралась упасть в обморок:
– О! Ты будешь читать мне сонеты!
– Не умничай! – Августин взъерошил ей волосы. – Помнишь первое сообщение Макса на автоответчике после похищения?
Наверное, теоретически это было похищением, но Бонни его таковым уже не считала.
– Губернатор велел ему прочитать отрывок. Я его нашел. – Августин показал название на корешке книги – «Тропик Рака» Генри Миллера. – Слушай: «Когда-то мне казалось, что высшая цель человека – быть человечным, но теперь я понимаю, что это меня разрушало. Сегодня я с гордостью говорю, что я бесчеловечен, не принадлежу ни людям, ни правительствам и не имею никаких верований и принципов. Мне нет дела до скрипучей машинерии человечества – я принадлежу земле! Лежу на подушке и чувствую, как на лбу прорастают рога».
Августин передал книгу Бонни. Сцинк подчеркнул отрывок красными чернилами.
– Это на него похоже, – сказала Бонни.
– И на меня. В любой из данных дней.
Ушибленное небо набрякло фиолетовым. Ветер усиливался – в вышине, в его потоках парила цепочка грифов-индеек. Слышались далекие раскаты сломанного грома. Августин спросил, как все прошло с Максом.
– Он возвращается один. Знаешь, мне кажется, я схожу с ума.
Бонни достала обручальное кольцо. Наверное, хотела надеть, а может – бросить в воду.
– Не надо, – сказал Августин, имея в виду оба варианта.
– Я отошлю его Максу. Не знаю, как еще поступить. – Голос Бонни печально дрогнул, и она поспешно спрятала кольцо.
– Что ты собираешься делать? – спросил Августин.
– Побыть с тобой. Годится?
– Идеально.
Бонни просветлела.
– А ты, мистер Живи Одним Днем?
– Я тебя порадую: есть план.
– Просто не верится.
– Нет, правда. Я хочу продать ферму дяди Феликса – вернее, то, что от нее осталось. Свой дом тоже. Потом найти место вроде этого и начать все сначала. Где-нибудь на самом дальнем краю всего. Тебе интересно?
– Не знаю. Там будет кабельное телевидение?
– Точно нет.
– А гремучие змеи?
– Возможно.
– Н-да. Край за краем света. – Бонни сделала вид, что раздумывает.
– Ты когда-нибудь слышала про Десять Тысяч Островов?
– Их кто-то посчитал?
– Нет, милая. На это ушла бы вся жизнь.
– Так это и есть твой план? – спросила Бонни.
Августину было знакомо это состояние раздрызга, когда выбираешь между якорем и парусом.
– Там есть город Чоколоски. Возможно, ты его возненавидишь.
Бонни вскочила на ноги:
– Хорош трепаться. Посиди-ка.
– Ты куда это?
– В библиотеку за стихами.
– Сядь. Я еще не закончил.
Бонни шлепнула его по руке:
– Ты мне читал? Теперь я тебе кое-что почитаю.
Спеша по тропинке, Бонни думала о Уитмене.[79] В проржавевшей «скорой помощи» лежала книжица в твердом переплете – «Песнь о себе». Бонни со школы любила это стихотворение. Одна строчка: «Но тщетно мастодонт бежит своих рассохшихся костей» – особенно подходила Сцинку.
А губернатор неподвижно лежал на земле, когда Бонни выскочила на поляну. Над ним согнулся Щелкунчик; он булькал и хрипел, стараясь отдышаться после бешеной вспышки ярости. В руке у него была обгорелая деревяшка – факел, с которым Сцинк привел их сюда.
Бонни стиснула кулаки и замерла, глядя на перекошенную рожу Щелкунчика, которую отнюдь не украшала хромированная красная железяка. Бандит не видел за деревьями женщину. Он бросил факел, схватил чемодан и рванул в лес.
Бонни, как безумная, бросилась за ним.
Щелкунчика привела в чувство прохладная морось. Вокруг было тихо. Одноглазый псих в грязном армейском шмотье спал, растянувшись под деревом. Ни Эди, ни мужика с ружьем, ни чокнутой телки, обливавшейся лимонадом.
Щелкунчик медленно сел. Веки слиплись, во рту пересохло. К брови прилип шмат грязи. В который раз Щелкунчик безуспешно попытался сдернуть блокиратор. Боль была невыносимой; казалось, все кости черепа напружинились, чтобы разлететься вдребезги. Слава богу, что он себя не видит. Наверное, чисто клоун, мать его. Человек-ведро. Мудаки бы выстраивались в очередь, чтобы забросить ему в пасть мячик.