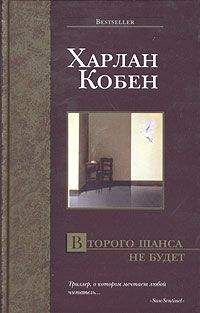Необычный слог, мягко говоря. Я прочитал записку трижды и посмотрел на Эдгара с Карсоном. Мной овладела странная умиротворенность. Да, случилась страшная вещь, но эта записка… Она успокаивает. Наконец хоть что-то произошло. Теперь можно действовать. Можно вернуть Тару. Появилась надежда.
Эдгар встал, проследовал в угол, открыл шкаф и вытащил спортивную сумку с эмблемой «Найк».
– Здесь вся сумма, – сообщил он и положил сумку мне на колени.
Я опустил взгляд:
– Два миллиона?
– Банкноты разложены не по номерам, но сами номера я на всякий случай переписал.
– Может, стоит связаться с ФБР? – Я перевел взгляд с сумки на Карсона.
– Не думаю. – Эдгар уселся на крышку стола и скрестил руки на груди. От него пахло лосьоном, но этот запах смешивался с чем-то куда более простым, прогорклым, земным. Под глазами у Эдгара темнели круги. – Решать тебе, Марк. Ты отец. Мы с уважением примем любое твое решение. Но ты знаешь, мне приходилось иметь кое-какие дела с верхами. Возможно, я сужу предвзято, возможно, мои взгляды окрашены личным отношением, но, по моему опыту общения, люди из ФБР некомпетентны и своекорыстны. Если бы речь шла о моей дочери, я положился бы скорее на собственное суждение, нежели на них.
Я колебался. Эдгар взял бразды правления в свои руки. Он хлопнул в ладоши и кивнул в сторону двери.
– В записке говорится, чтобы ты ехал домой и ждал. По-моему, лучше последовать указанию.
За рулем сидел прежний водитель. Прижимая сумку с деньгами к груди, я скользнул на заднее сиденье. Чувства мои раздваивались между малодушным страхом и, как ни странно, чем-то похожим на душевный подъем. У меня появился шанс вернуть дочь. Со всем этим можно покончить.
Но для начала надо решить главное: обращаться в полицию или нет?
Я попробовал успокоиться, взглянуть на ситуацию хладнокровно, со стороны, взвесить все «за» и «против». Естественно, это не удалось. Я врач. Мне случалось делать выбор, от которого зависит жизнь. Для верного решения необходимо избавиться от любого балласта, вычесть из уравнения чрезмерные переживания. Но на карте – жизнь дочери. Моей родной дочери. Или, как я уже сказал в самом начале, – мой мир.
Дом, который мы с Моникой купили, расположен рядом с домом, где я вырос и где до сих пор живут мои родители. Отношусь я к этому противоречиво. Вообще-то мне не нравится жить так близко к родителям, но еще больше не по душе бросать их и терзаться по этому поводу. И вот компромисс – жить рядом и много ездить.
Ленни с женой обитают в четырех кварталах отсюда, около Каслтон-Молл, в доме, где Черил выросла. Ее родители шесть лет назад переехали во Флориду, в Роузленд, там у них квартира в кондоминиуме, так что можно часто навещать внуков, избегая испепеляющей летней жары Солнечного штата.
Мне лично жить в Каслтоне не особенно нравится. За последние тридцать лет городок почти не изменился. В молодости мы насмехались над родителями, их материалистическими склонностями и пустыми, с нашей точки зрения, ценностями. Теперь мы сами сделались родителями. Мы просто заняли их место, а маму с папой нацелили туда, где их вскоре согласятся принять. Наше место займут наши дети. А так – все по-прежнему. Закусочная Мори – на Каслтон-авеню. В пожарной команде работают в основном добровольцы. Мальчишки играют в футбол на Нортленд-Филд. Линии высоковольтной передачи проходят в опасной близости от моей начальной школы. В роще позади дома Бреннеров на Рокмонт-террас околачиваются и покуривают травку подростки. Каждый год среднюю школу кончают от пяти до восьми отличников; во времена моей молодости это были преимущественно евреи, а сейчас – выходцы из азиатских стран.
Мы повернули направо и двинулись по Монрол-авеню вдоль домов с двухэтажными квартирами. В одной из них я вырос. Выкрашенная в белый цвет, с темными шторами кухня, гостиная и столовая расположены в левой верхней части, кабинет и гараж – справа внизу. Родительский дом, хотя и несколько обветшавший, мало чем отличался от местных берлог. Единственное, что выделяло его, – скат-пандус для инвалидной коляски. Его сделали, когда мне было двенадцать лет, после того, как с отцом случился третий удар. Мы с друзьями любили гонять по пандусу на роликовых коньках. У края мы устроили трамплин из фанеры и кучи золы.
На подъездной дорожке стояла машина медсестры. Она приезжает в дневное время. Круглосуточного дежурства у нас нет. Отец прикован к каталке вот уже больше двадцати лет. Говорить не может. Губа у него слева уродливо загнута вниз. Половина туловища парализована, да и вторая не многим лучше.
Водитель свернул на Дерби-террас, и я увидел, что за минувшие несколько недель мой дом – наш с Моникой дом – ничуть не переменился. Не знаю, впрочем, чего я ожидал. Быть может, полицейского ограждения. Или большого пятна крови. Так или иначе, ничего, мало-мальски намекающего на то, что здесь произошло две недели назад, не было.
Прежние хозяева дома лишились права выкупа по закладной. В течение тридцати шести лет здесь жили некие Левински, но никто с ними тесно не общался. Миссис Левински была на вид славной женщиной, хотя от тика у нее дергалась щека. Мистер Левински, напротив, казался чудовищем, он постоянно орал на жену. Мы все его боялись. Однажды мы видели, как он с лопатой в руках гонится за миссис Левински, на которой была одна ночная рубашка. Дети, залезавшие куда попало, обходили их участок стороной. Вскоре после того, как я окончил колледж, прошел слух, будто Левински изнасиловал свою дочь Дину, робкую, с грустными глазами и шелковистыми волосами девушку. С Диной я проучился вместе лет десять, начиная с первого класса. Однако сейчас, оглядываясь назад, не припомню, чтобы голос ее когда-нибудь поднимался над шепотом, да и шептала-то она, лишь когда была вынуждена отвечать учителям, которые, кстати, всегда хорошо к ней относились. Я так и не сблизился с Диной. Не знаю уж, чем бы это кончилось, тем не менее жаль, даже не попробовал.
Приблизительно в то время, когда в округе зашушукались о том, что Левински изнасиловал дочь, семья вдруг в одночасье собралась и уехала. Куда – неизвестно. Дом перешел к банку, который и сдавал его внаем. Мы с Моникой подали заявку на приобретение за несколько недель до рождения Тары.
В первые дни после переезда я просыпался ночами и вслушивался… не знаю, во что именно, наверное, в какие-то звуки, хранящие память о прошлом этого дома, о беде, которая здесь жила. Я пытался сообразить, какая из комнат была Дининой спальней, и как она пережила случившееся, и каково ей сейчас, но ответа не находил. Могу только повторить: дом – это кирпич и цементный раствор. И больше ничего.
Рядом с подъездом были припаркованы какие-то две машины. На пороге стояла мать. Стоило мне выйти, как она бросилась ко мне, словно телеоператор к солдату, вернувшемуся из плена. Она крепко обняла меня, и я уловил густой аромат духов. В руках я по-прежнему держал сумку с деньгами, и ответить на объятие с равным пылом было затруднительно.
Из-за спины матери появились детектив Боб Риган и рослый чернокожий мужчина с блестящим, выбритым наголо черепом и в модных солнечных очках.
– Это к тебе, – прошептала мать.
Я кивнул и двинулся в их сторону. Риган прикрыл глаза ладонью, но скорее для вида: солнце светило не так уж ярко. Чернокожий даже не пошевелился.
– Где вы были? – спросил Риган и, не дождавшись ответа, добавил: – Из больницы вы уехали больше часа назад.
Я подумал о мобильнике, лежавшем у меня в кармане. О сумке с деньгами. Ладно, для начала ограничимся полуправдой:
– На могиле у жены.
– Нам надо поговорить, Марк.
– Заходите.
Все вошли в дом. В прихожей я остановился. Вот здесь, меньше чем в десяти футах отсюда, было найдено тело Моники. Не сходя с места, я окинул взглядом стену в поисках какого-нибудь знака насилия. И он обнаружился. Прямо над литографией с картины Беренса, неподалеку от лестницы, виднелось замазанное отверстие от пули – единственной, пролетевшей мимо меня и Моники.
Я долго не отводил от пятна взгляда. Кто-то откашлялся. Оказалось – я сам. Мать постучала меня по спине и проследовала на кухню. Я жестом предложил Ригану и его спутнику пройти в гостиную.
Они придвинули стулья. Я сел на диван. По-настоящему мы с Моникой не успели обставиться. На этих стульях я сиживал в студенческом общежитии, и выглядели они на все прошедшие с тех пор годы. Диван – из апартаментов Моники, мебель из породы «не прикасаться», такая в Версале стоит, тяжеловесная и чинная; даже во времена своей юности особо крепкой обивкой диван не отличался.
– Это специальный агент Ллойд Тикнер. – Риган указал на чернокожего. – ФБР.
Тикнер кивнул. Я ответил так же.
– Рад, что вы чувствуете себя лучше, – попытался улыбнуться Риган.
– С чего это вы взяли?