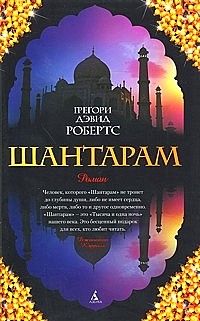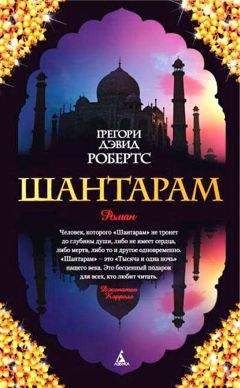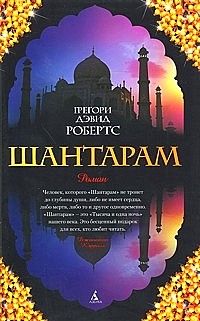— Дайте мне иголку и нитку, я зашью сам, — сказал Амир, судорожно сглотнув.
В его широко раскрытых глазах были страх и решимость. Я только сейчас обратил внимание на то, как он молод: лет шестнадцать-семнадцать, не больше. На нем были спортивные туфли «Пума», джинсы и баскетбольная майка с номером 23 на груди. Все это изготавливалось в Индии по западным образцам и было в моде среди его сверстников, выросших в трущобах. В животе у этих парней было пусто, а в головах — каша из зпимствованных чужеземных идеалов: вместо еды они покупали одежду, в которой, как им казалось, они выглядели не хуже уверенных в себе иностранцев с обложек журналов и из кино.
За шесть месяцев, что я прожил в трущобах, я ни разу не встречался с этим мальчишкой, хотя он был одним из многих тысяч, живущих в радиусе пятисот метров от моей хижины. А некоторые — в частности, Прабакер и Джонни Сигар, — были, казалось, знакомы со всеми, и меня поражало, что они в подробностях знают жизнь всех этих тысяч людей. Но еще более удивительным было то, что они беспокоились и заботились о них. Я подумал, не является ли Амир родственником Джонни. Когда мальчишка предложил зашить рану самостоятельно, Джонни молча кивнул мне, подразумевая: «Да, он такой, он сделает это сам». Амира между тем пробрала дрожь, когда он представил себе, как игла впивается в его плоть, а губы его издали беззвучный стон.
— Ну ладно, ладно, — сдался я. — Я зашью его рану. Но это будет больно — у меня нет обезболивающих средств.
— Больно! — прогремел Джонни радостно. — Больно — это не проблема, Лин. Это хорошо, что тебе будет больно, чутиа [76]. Надо, чтобы у тебя в мозгах стало больно, вот что!
Я посадил Амира на свою постель, прикрыв его плечи еще одним одеялом. Достав керосиновую плитку из ящика, я накачал ее, разжег и поставил на нее кастрюлю с водой. Джонни отправился к кому-то из соседей за чаем. Я наскоро вымыл лицо и руки в темноте возле хижины. Когда вода вскипела, я налил немного на тарелку, а в кастрюлю бросил две иглы, чтобы стерилизовать их. Промыв рану теплой мыльной водой и антисептиком, я высушил ее с помощью чистой марли. Затем я туго перебинтовал руку и оставил повязку на десять минут, надеясь, что края немного сойдутся и зашивать будет легче.
Амир по моему настоянию выпил две большие кружки сладкого чая, чтобы предупредить шок, симптомы которого уже начали проявляться. Он был напуган, но спокоен. Он доверял мне. Он не знал, что я делал подобную операцию всего раз в жизни, и при обстоятельствах, до смешного похожих на нынешние. Тогда человека ранил ножом в драке его сокамерник. Спор между дерущимися был таким образом разрешен и вопрос был для них закрыт, но если бы раненый обратился в тюремный лазарет за помощью, его поместили бы в изолятор в целях защиты. Для некоторых заключенных — растлителей малолетних, стукачей — это было порой единственное место, где они могли уцелеть. Другие, которых отправляли в изолятор против их воли, рассматривали это как божье наказание. Их могли заподозрить в тех же грехах, да и очутиться в компании этих презренных подонков им не улыбалось. Поэтому раненый обратился ко мне. Я зашил его рану нитками для вышивания с помощью кожевенной иглы. Рана зажила, но остался уродливый неровный шов. И теперь, помня о том случае, я чувствовал себя неуверенно. Робкая доверчивая улыбка Амира не облегчала мою задачу. «Люди всегда приносят нам вред своим доверием, — сказала мне как-то Карла. — Больше всего ты навредишь человеку, которому симпатизируешь, в том случае, если полностью доверишься ему».
Я выпил чая, выкурил сигарету и приступил к работе. Джонни стоял в дверях, безуспешно пытаясь отогнать нескольких любопытствующих соседей с детьми. Игла была изогнутой и очень тонкой. Очевидно, ее надо было держать каким-то пинцетом, но у меня под рукой такового не было — я одолжил свой соседям для починки швейной машинки. Пришлось заталкивать иглу в кожу и вытаскивать ее пальцами. Это было неудобно, игла скользила, и первые несколько стежков получились у меня довольно неаккуратными. Амир морщился и очень изобретательно гримасничал, но молчал. После пятого или шестого стежка я приноровился, и работа пошла более споро, хотя Амиру от этого легче не стало.
Человеческая кожа более упруга и прочна, чем кажется. Сшивать ее нетрудно, она не рвется, когда протягиваешь нить. Но игла, какой бы тонкой и острой она ни была, остается чужеродным человеку предметом, и если вы не привыкли к такой работе, то каждый раз, всаживая иглу в человеческое тело, испытываете психологический дискомфорт. Несмотря на ночную прохладу, я вспотел. По мере того как работа продвигалась, Амир все больше приободрялся, во мне же нарастали напряжение и усталость.
— Надо было настоять, чтобы он пошел в больницу! — не выдержал я. — Это не работа, а смех!
— Ты очень хорошо зашиваешь его, Лин, — возразил Джонни. — Ты мог бы сшить замечательную рубашку.
— Совсем не так хорошо, как надо. У него останется большой шрам. Не знаю, какого черта я взялся за это.
— У тебя, наверно, проблемы с туалетом, Лин?
— Что-что?
— Ты плохо ходишь в туалет? У тебя трудное опорожнение?
— Господи помилуй, Джонни, что ты несешь?
— У тебя плохое настроение, Лин. Обычно оно совсем не такое. Может быть, проблема с трудным опорожнением, я думаю?
— Нет! — простонал я.
— А-а, тогда, наверно, с чересчур частым опорожнением?
— В прошлом месяце у него три дня было очень частое опорожнение, — вступила в разговор одна из соседок в дверях. — Муж говорил, что Линбаба ходил опорожняться три или четыре раза каждый день, а потом еще три или четыре раза ночью.
— Да-да! — подхватил другой сосед. — Я помню. Он такую боль при этом испытывал и такие рожи строил, йаар! Можно было подумать, что он ребенка рожает. И это было очень жидкое опорожнение, громкое и быстрое — все равно как пушка выстреливает в День независимости. Ба-бах! Вот как! Я порекомендовал ему пить чанду [77], и опорожнение стало густым, и цвет получился хороший.
— Это хорошая мысль, — одобрил Джонни. — Пойдите приготовьте чай чанду, чтобы у Линбабы улучшилось опорожнение.
— Не надо мне никакого чая! — взорвался я. — У меня нет проблем с опорожнением! Я вообще не успел еще произвести какое-либо опорожнение. Я просто до смерти хочу спать. Оставьте меня в покое, ради всего святого! Ну вот. Я кончил. С рукой, надеюсь, все будет в порядке, Амир. Но тебе надо сделать укол против столбняка.
— Не надо, Линбаба. Я уже делал укол три месяца назад, после последней драки.
Я промыл рану еще раз и засыпал ее обеззараживающим порошком. Наложив поверх всех двадцати шести стежков свободную повязку, я велел Амиру не мочить ее и прийти ко мне через день на проверку. Он попытался всунуть мне деньги, но я не взял их. Никто в трущобах не платил мне за лечение. Но тут я отказался не только из принципа, но и потому, что испытывал совершенно необъяснимую злость — на Амира, на Джонни, на самого себя. Я приказал Амиру убираться на все четыре стороны, и он, прикоснувшись к моей ступне, задом выбрался из хижины, получив на прощание еще один подзатыльник от Джонни.
Не успел я убрать хижину после операции, как ворвался Прабакер и, схватив меня за рубашку, стал куда-то тащить.
— Как хорошо, что ты не спишь, Линбаба! — воскликнул он, с трудом переводя дыхание. — Мы не потратим время на то, чтобы разбудить тебя. Пошли скорее!
— Куда еще, черт побери?! Оставь меня, Прабу, мне надо что-то сделать с этим беспорядком.
— Некогда делать беспорядок, баба. Пошли скорее, пожалуйста, и никаких проблем.
— Еще какие проблемы! Я никуда не пойду, пока ты не объяснишь мне, в чем дело. Это мое последнее слово.
— Ты абсолютно обязательно должен пойти, Лин! — настаивал он, продолжая тянуть меня за рубашку. — Твой друг попал в тюрьму! Ты должен ему помочь.
Выскочив из хижины, мы по узким утопающим в темноте трущобным закоулкам выбрались на траснпортную магистраль. Возле отеля «Президент» мы поймали такси и помчались по пустынным и молчаливым улицам мимо колонии парсов, причала Сассуна и Колабского рынка. Прабакер остановил такси около полицейского управления Колабы, прямо напротив «Леопольда». Ресторан в этот час был, естественно, закрыт, металлические ставни спускались до самой земли. Он казался неестественно тихим, как будто, затаившись, обделывал какие-то темные делишки.
Мы с Прабакером прошли через ворота во двор полицейского участка. Сердце мое билось учащенно, но внешне я был спокоен. Все здешние копы говорили на маратхи — это было непременное условие приема на работу, — и я понимал, что мое знание языка будет для них приятным сюрпризом и оградит меня от лишних вопросов — если у них нет особых причин подозревать меня. Тем не менее, я вступил на вражескую территорию, и мысленно я заталкивал тяжелый сундук с запертым в нем страхом в самый дальний угол своего чердака.