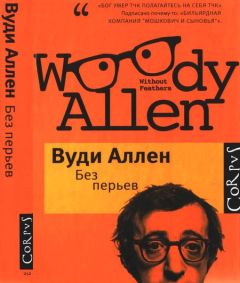У меня голова шла кругом от множества известных и привилегированных особ, коим меня представляли: герцоги и графы, послы и почетные члены, иностранные принцы и набобы, судьи и банкиры, генералы и адмиралы, жены, дочери, матери и титулованные вдовы, все в великолепных нарядах, с изысканными прическами, в ослепительно сверкающих драгоценностях. Немало было там и красивых молодых холостяков — все завидные женихи, но ни один не вызвал у меня ни малейшего интереса.
Наступила пятница, и еще одно тягостное утро с утомительными разъездами в тряской карете по слякотным улицам, окутанным грязной пеленой тумана с копотью. После обеда, однако, Эмили пожаловалась на недомогание и послала за своим лондонским врачом, доктором Мэнли.
— Мне очень жаль, Алиса, — сказала она после ухода доктора, — но боюсь, нам придется отказаться от наших планов на сегодня. Я понимаю, вы разочарованы, как и я, но ничего не попишешь. Доктор Мэнли настоятельно рекомендует мне отдохнуть, так что вам придется развлекать себя самой. Вы же не возражаете, дорогая, правда? Пока мне не станет лучше.
Натурально, я удручена сверх всякой меры: ну как же, ведь я лишилась счастливой перспективы трястись в карете по грязным шумным улицам, чтобы полчаса потаращиться на какую-нибудь очередную городскую достопримечательность, а потом провести весь вечер, стараясь понравиться виднейшим представителям английского высшего света.
Здесь, пожалуй, мне следует сделать одно признание, свидетельствующее о не всегда удобной сговорчивости моей совести. Испытывала ли я нравственные угрызения, когда мне столь щедро расточала милости двадцать шестая баронесса Тансор, одна из самых красивых и богатых женщин в Лондоне, вызывающая всеобщее восхищение? Да. Но находила ли я, невзирая на укоры совести, тайное удовольствие в привилегиях, проистекающих из моей дружбы с этой незаурядной особой? Безусловно. Какая девятнадцатилетняя барышня, с малым знанием светского общества, не почувствовала бы себя польщенной подобными знаками внимания? Как и любая другая неискушенная молодая девица, я была подвержена соблазнам суетного мира, пленяющего взор мишурным блеском, и исполнена желания отдаться им при случае.
Да, мне не хватало воли оставаться самой собой, когда меня всячески баловали, ублажали, обихаживали, и я позволяла себе от души наслаждаться происходящим — лишь одно омрачало удовольствие: подобно второй тени, суровый призрак Долга неотступно следовал за мной по золоченым залам, сидел рядом со мной за ломящимися от яств столами, и проникал в мои сны, настойчиво призывая отказаться от тщеславия и эгоизма в пользу прежней целеустремленной решимости, заставляющей забывать обо всем, помимо миссии, возложенной на меня судьбой.
Оставив Эмили в спальне, я удалилась к себе, чтобы поразмыслить, как бы получше распорядиться своей неожиданной свободой.
Я понимала: куда бы я ни решила отправиться, мне следует поставить в известность сержанта Свонна. Однако, не питая особой симпатии к своему защитнику, я в конечном счете рассудила, что не подвергнусь никакой опасности, коли буду держаться людных улиц.
Пока я листала путеводитель Мюррея, меня вдруг осенила оригинальная мысль, приведшая меня в возбуждение.
Я разыщу мистера Джона Лазаря, если он еще жив.
Воодушевленная внезапной идеей, я накинула плащ, сбежала вниз по лестнице и, задыхаясь, попросила Чарли нанять для меня кеб.
— Докуда, мисс? — осведомился он.
— Биллитер-стрит, Сити. Будьте так добры, Чарли, — ответила я, прикладывая палец к губам.
Он подмигнул, козырнул и вышел прочь.
Дом стоял неподалеку от перекрестка с Леденхолл-стрит — наполовину деревянное покосившееся здание с грязными мутными окнами и обитой гвоздями дверью устрашающего вида, над которой болталась облупленная вывеска с изображением парусного корабля и намалеванной краской надписью «Дж. С. Лазарь, судовой агент».
Я постучала, подождала немного, потом постучала еще раз, но никто так и не отозвался. Я подумала, что мистер Лазарь все-таки умер, а дом пустует, и уже собралась уходить, но тут дверная ручка медленно повернулась.
На пороге передо мной стоял хилый, сгорбленный старик, о чьи ноги ласково терся молодой бело-рыжий кот.
— Добрый день, мисс. Чем могу быть полезен?
Вопросительное выражение его лица внезапно изменилось.
— Прошу прощения, мисс, — сказал он, убирая со лба жидкую прядь седых волос. — Не имел ли я чести встречать вас прежде?
— Полагаю, нет, сэр, — ответила я. — Но вы мистер Джон Лазарь, верно?
— Да, он самый.
Так он жив! Он стоит передо мной — человек, которому мой отец был обязан жизнью.
— Не обессудьте, мисс, — промолвил старик, — если я поинтересуюсь, какое у вас ко мне дело.
— Я здесь потому, что вы некогда знали моего отца, — ответила я. — Я Эсперанца Горст, дочь Эдвина Горста.
— Дочь Эдвина Горста! — вскричал он. — Ужели такое возможно? Входите, входите, пожалуйста!
С многословными изъявлениями радушия мистер Лазарь провел меня в низкую комнату, пыльную и темную. Все стены там от пола до потолка были увешаны картинами с изображением кораблей, сухопутными и морскими картами, выцветшими рисунками экзотических птиц и цветов, разнообразными топографическими видами атлантических островов, где мистер Лазарь побывал за долгие годы профессиональной жизни.
Он предложил испить чаю, я согласилась, и мы беседовали целый час или даже дольше. Мистер Лазарь рассказал множество мелких, но чрезвычайно интересных для меня подробностей о времени, проведенном с моим отцом на Мадейре. Он сохранил самые живые воспоминания о тех далеких днях, но они не добавили почти ничего нового к сведениям, почерпнутым мной из его мемуаров. Я в свою очередь поведала старику все, что знала о жизни моих родителей после бегства с Мадейры и о смерти моего отца в Константинополе в 1862 году.
Один вопрос занимал меня больше всего.
— Мистер Лазарь, — наконец решилась я, — вы, случайно, не знаете, что за бумаги содержались в шкатулке, которую мой отец попросил вас отвезти в Англию и отдать на хранение своему поверенному?
— Они носили конфиденциальный характер, и потому я, разумеется, не расспрашивал, — ответил старик. — Но из однажды оброненного вашим батюшкой замечания я понял, что в шкатулке содержались своего рода мемуары — возможно, дневниковые записи или более пространное повествование о его жизни.
Сердце так и подпрыгнуло у меня в груди.
— А не помните ли вы имя поверенного?
Я говорила спокойным голосом, но вся обмерла в ожидании ответа.
— Мистер Кристофер Тредголд, — без малейшего колебания сказал старик. — Кажется, бывший работодатель вашего отца. Он вышел из фирмы после того, как с ним приключился удар. Однако у меня сложилось впечатление, что он выступал скорее в качестве друга, нежели юридического представителя.
— В таком случае следует предположить, — заметила я, — что бумаги остались на хранении у мистера Тредголда.
— Этого я не могу знать, понятное дело, — промолвил мистер Лазарь.
— И вы больше не общались с мистером Тредголдом?
— Боюсь, нет. Не желаете ли еще чаю, дорогая?
Я понимала, что наш разговор очень утомил мистера Лазаря и что последний вопрос он задал единственно из врожденной учтивости, а посему вежливо отказалась и встала, собираясь откланяться.
— Теперь я вижу, что вы похожи на него не только внешне, — сказал славный старик, когда я вышла на холодную грязную улицу. — Вы и характером пошли в отца — человека в высшей степени незаурядного, знакомство с которым, пусть и короткое, я считаю одним из знаменательнейших событий в своей жизни. Я никогда больше не встречал такого, как он, и никогда уже не встречу, конечно же. Да хранит вас Бог, дорогая. Заходите еще при случае, коли желаете. Гости нынче редкость в моем доме.
Я твердо намеревалась еще не раз наведаться на Биллитер-стрит — не только для того, чтобы попробовать выпытать еще какие-нибудь сведения у человека, знавшего Эдвина Горста, но и потому, что я прониклась искренней приязнью к немощному престарелому джентльмену, некогда вернувшему моему отцу волю к жизни, надежду и целеустремленность. Однако, как мне стало известно впоследствии, вскоре после моего визита он скончался, и, таким образом, первая наша встреча оказалась и последней.
Я покинула дом на Биллитер-стрит в глубокой задумчивости и, поглощенная своими мыслями, даже не заметила слежки за собой.
Только на Фенчерч-стрит, случайно оглянувшись на часы церкви Святого Дионисия, я увидела своего преследователя — коренастого мужчину лет сорока, с круглой красной физиономией, не по возрасту седыми волосами и совершенно прямыми густо-черными бровями. Я сразу его узнала: Диггз, слуга мистера Армитиджа Вайса, приезжавший с ним на Рождество в Эвенвуд.