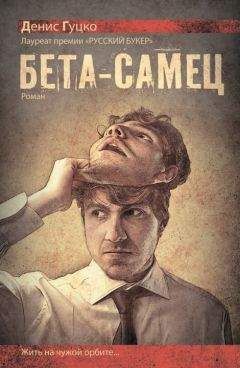– Она спит, – сказал Кэлли. – Может быть, завтра, если у тебя найдется время. – Он придерживал Элен для себя. Позднее ей понадобятся и прочие посетители.
– У меня есть для тебя сообщение, – сказал Доусон, ставя чемоданчик на стул.
– От Протеро?
– Точно.
– Дай-ка подумать. Он надеется вскоре меня увидеть. И он надеется увидеть мой доклад. – Он помолчал, вглядываясь в Доусона и стараясь понять, не может ли тут быть что-нибудь еще. – Что я возьму отпуск?
– Ну, теперь обстоятельства личные, – сказал Доусон, – разве не так?
– Это ты говоришь? – Кэлли мельком взглянул на чемоданчик для документов. – Или Протеро?
– Констатация факта.
– И что же, по-твоему, я должен делать?
– Ну, ты можешь взять на какое-то время отпуск. – Доусон отвернулся, глядя вдоль коридора больницы. – Тебе же, я полагаю, захочется подолгу бывать здесь. Я не знаю. Это твое дело. – Он говорил странно: то ли раздраженно, то ли нетерпеливо. – Я не думаю, что кто-нибудь станет особенно беспокоиться о том, чем ты занимаешься. Или где ты находишься.
– Хорошо, – сказал Кэлли, – я именно так и сделаю. Передай это Протеро.
Он взял чемоданчик и проводил Доусона до главных дверей. Прощаясь, они посмотрели друг на друга. Доусон не удержался от смешка, внезапного и взрывного, как человек, которому рассказали шутку в церкви. Смешок тут же умолк. Казалось, что Доусону очень хочется побыстрее уйти.
– Где ты это раздобыл? – спросил Кэлли.
– Что раздобыл? – Глаза Доусона избегали смотреть на чемоданчик.
Кэлли наблюдал, как удаляется Доусон через серый водопад дождя, а потом он отнес чемоданчик в свою машину и запер его в багажник.
Вид больницы был обманчив, как вид пчелиного улья: безликие стены и зашторенные окна снаружи, а внутри – все сплошное движение и драма. Подобно ребенку, Кэлли никогда не мог пройти мимо больницы, не заглянув в окна и не полюбопытствовав, не умирает ли кто-то за тем или другим окном. Эта мысль всегда волновала и пугала его. Снаружи, со стороны автостоянки, было нечего смотреть или слушать. И лишь внутри ты понимал, где находишься, – на фабрике страданий.
Он посмотрел вверх, на окна палаты, где лежала Элен, а потом быстро пошел к главному входу, как будто он только что решил, что ему делать. Впрочем, говоря по правде, это решение было принято еще до того, как Доусон принес ему винтовку.
* * *
Ты можешь стоять на краю обрыва и глядеть вниз, но смотреть как это делают другие, для тебя невыносимо. Кто-то другой это и есть ты. Над головой яркое небо, и в лицо дует легкий ветерок. А чуть-чуть повыше вершины этого утеса, оседлав теплые потоки воздуха, носятся морские чайки, кажется, они так близко, что их можно коснуться, хотя они и находятся в сотнях футов над этими скалами и морем.
Ты стоишь и смотришь на себя, как ты идешь к этому обрыву. Если бы ты могла сказать, предостеречь, но это бессмысленно, потому что, кроме тебя, здесь некому слушать, и вот ты спускаешься вниз по склону, к полосе травы, где все останавливается, где все исчезает.
Твои каблуки увязают в топком торфе, носки задираются вверх. А то, что внизу, слишком далеко, чтобы можно было разглядеть, и отсутствие этой возможности подобно слепоте. Ты стоишь, и ничего, ничего перед тобой нет. И это прекрасно. Ты в безопасности, потому что это ты, ты сама, ты управляешь собой, достаточно уверенная в себе, чтобы продвинуться вперед еще на дюйм. Ты наблюдаешь за этим с некоторого расстояния, другая ты, и если бы ты могла сказать, ты бы сказала: «Вернись назад. Вернись назад. Отойди в сторону». А этот человек на краю утеса думает: «Ничего не может случиться, потому что я – это я, я сама».
Обе эти мысли приходят к тебе, как ливень. В шоке твои ноги отступают от края. В этом есть какая-то ужасающая неопределенность, словно все в мире расшаталось, и ты скользишь в этой безбрежности, и звук твоего собственного падения гогочет в твоих ушах. А воздушные потоки не поддержат тебя: их там нет. Вот что происходит с тобой как раз перед тем, как ты умираешь.
* * *
Элен, вздрогнув, посмотрела прямо в лицо Кэлли. Говорила она обрывисто. Кэлли понимал, что он слушает что-то выхваченное из середины какого-то продолжительного объяснения: она очнулась от сна сразу, ее голос не был сонливым.
– Мне снилось, что я падаю. – Страх четче обозначил черты ее лица, она наполовину села, словно пытаясь поймать то, что было сказано. Потом и лицо и поза расслабились, смягчились, казалось, это было ее второе пробуждение. Она улыбнулась Кэлли и протянула руку. – Я думаю, что это неудивительно.
– Конечно нет.
– Долго ли я спала? – Она имела в виду: надолго ли ты уходил?
– Возможно, минут пятнадцать. Не больше.
– Ты виделся с Майком?
– Да.
– Никаких следов?
– Никаких следов.
Они говорили о Джексоне, о том человеке, который избрал ее своей жертвой. Она хотела, чтобы его поймали, связали, заперли и запломбировали печатью. Его свобода отзывалась ледяным сквозняком по спине, была подобна дуновению смерти.
– Это вопрос пары дней, – сказал Кэлли. – Либо он там, либо его там нет. Если он там, он будет меня ждать.
– Предоставь это кому-нибудь еще.
– Ты в самом деле этого хочешь?
Все, чего она хотела, все, о чем она просила, – это чтобы Кэлли остановился. Если не считать того, что теперь она тоже нуждалась в защите. Она попробовала высказать мысль, которая позволила бы им обоим соскочить с этого крючка:
– Он может быть где угодно.
– Я так не думаю, – ответил Кэлли.
– Ты знаешь, где найти его? Ты уверен в этом?
– Совершенно уверен.
– Тогда другие могут сделать то же самое. – Она спорила сама с собой так горячо, как только умела. Но на самом деле она догадывалась, что причина ее страха связана с самим Кэлли, с риском, на который он идет.
– Я так не думаю, – сказал он.
– Почему?
Он сказал нечто такое, чего она предпочла бы не слышать.
– Мы нужны друг другу. Мы ищем друг друга. Мы ожидаем найти друг друга.
Элен потянулась к стакану с водой, стоявшему на тумбочке рядом с койкой. Кэлли помог ей, приподняв ладонью ее затылок и поднеся стакан к губам. Она выпила почти все. Когда он снова опустил ее на подушку, ее глаза закрылись.
Кэлли стоял у окна и смотрел на улицу. Гигантские столбы солнечного света расходились из-за темной тучи, повисая между землей и небесами, подобно стойкам, поддерживающим небо. Но люди были слишком заняты, чтобы это замечать. Они шли по улице в одну и другую стороны, поглощенные мыслями о своих делах.
Когда он вернулся, Элен уже проснулась и искала его взглядом.
– Они нашли Уорнера? – спросила она.
– Скрылся, – покачал головой Кэлли.
– Куда?
– Да в любое место, куда могут привести деньги. Не знаю.
– Мне кажется, теперь я ненавижу это, – сказала она, – эту работу в галерее. Не думаю, что вернусь туда. Никого там не интересует сама работа, понимаешь? Это, конечно, штамп, но это так. А картина – это просто деньги в рамке. Я, возможно, виновата не меньше, чем любой другой. Очень может быть. Я даже не знаю, имеет ли это значение. Но Уорнер... – Она замолчала, словно приводя в порядок свои мысли. – Как можно было проделать такое? Убить всех этих людей...
– Для него это не имело значения, – сказал Кэлли.
– Почему? – Элен вопросительно уставилась на него: он сказал это так, словно знал ответ.
– Ты просто не видишь этого, потому что тебя там нет. Ты не испытываешь огорчения, потому что ты не знаешь этого человека. Ты не очевидец ни одного из свидетельств смерти: гробы, похороны, родственники в трауре, чиновники похоронных контор... Это не имеет отношения к реальному человеку, это нечто абстрактное, благодаря чему все проходит незаметно. Подумай: вот ты смотришь телевизор. Где-то произошло землетрясение. Дети погребены под завалами. Сотни погибших. Разве ты откладываешь из-за этого свой вечерний поход в театр?
– Но Уорнер вызвал все это, – возразила Элен. – Смерти не были случайными, он сделал так, чтобы это случилось.
– Единственное отличие между твоим пониманием этого и его, – пожал плечами Кэлли, – в том, что ты воспринимаешь человека не как статистическую единицу. А по статистике люди ведь все время умирают.
– Их было слишком много, – сказала она.
– Это относительное понятие. Все зависит от того, что ты можешь себе позволить. Слишком много, говоришь? Если ты ведешь войну, то это возможность улучшить соотношение сил в свою пользу. Ты высылаешь вперед дозор, вступаешь в бой с противником, убиваешь человек двадцать. И ведь никто не говорит: «Это слишком много». Ты сбрасываешь бомбу и убиваешь сотню. И никто не говорит: «Слишком много». Смерть множества людей – это показатель эффективности войны. Уорнер, я полагаю, рассматривал свою деятельность, как своего рода войну. Войну против конкурентов, войну за приумножение своего богатства. Это не так уж и необычно. Скольких убивает мафия, разные банды?