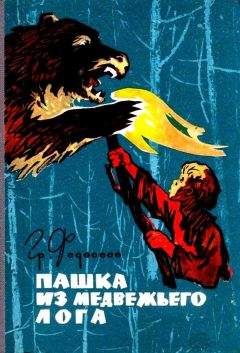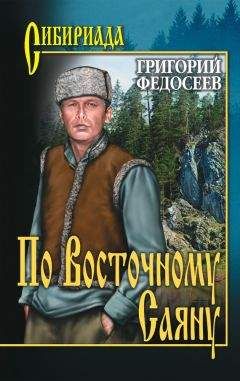— Успокойся, милая, — говорит старик, приглаживая узловатыми пальцами шерсть на голове пленницы. — В обиде не будешь, а с тайгою прощайся.
Я смотрю на измученную погоней, спеленатую веревками маралуху, и думаю, что не гулять ей больше по лесным просторам, не бродить по хребтам, не видеть с вершин закатов, не отдыхать в прохладе горных цирков. Ее жизнь будет отгорожена от всего этого высокой изгородью. Ненужными станут приспособленность, инстинкт, чутье, слух — все будет приглушено неволей.
Гурьяныч, точно угадав мои мысли, говорит Пашке:
— Не было бы браконьерства, тут бы по всей тайге маральнику быть, чего лучше. Мы неволим зверя, в загородках держим, а лес пустовать будет, На что годится.
Старик сделал, из веревок узду, надел на голову самки и крепко подтянул к ногам.
— Иначе снега нахватается — пропадет, да и голову может в кровь разбить… Чего доброго, ослепнет, — говорит он назидательно, по-прежнему обращаясь к внуку.
— Дедушка, а для чего овчинкой ноги обмотал? — спрашивает тот.
— Чтобы их не порезать веревками. Говорю, зверю тоже больно бывает. Надо с любовью, с заботой…
Мы расстелили шерстью вниз сохатиную шкуру, что нес Пашка, уложили на нее маралуху и только теперь почувствовали, как устали, как хочется есть.
Красное солнце у горизонта. Снег в багровых подтеках. В лесной тиши печаль уходящего дня.
— Пашка, ты на выдумки горазд, како имя дадим маралухе? — спрашивает старик, отрезая нам по ломтю хлеба.
— Кедровка. Лань. А той, — парнишка кивает в сторону телки, — Дочка.
— Вы за како имя? — обращается ко мне Гурьяныч.
— Лань — не плохо, да и Дочка — тоже.
— А быка назовем Непокоренный, — говорит Пашка.
— Это почему же Непокоренный?
— Его нам теперь не догнать — ушел.
— Уйти ему некуда, внучек, — спокойно возражает старик.
Мы быстро съедаем по куску хлеба с маслом, набрасываем котомки, возвращаемся с Гурьянычем к телке.
— Дедушка, у нас остается одна шкура под быка, а как же Дочку потащим? — спрашивает Пашка.
— Что-нибудь придумаем.
Подойдя к телке, Гурьяныч сошел с лыж, сбросил котомку. Его доброе лицо осенила какая-то радостная мысль. Он внимательно осмотрел бьющуюся в припадке гнева самочку, ощупал бока, как бы проверяя дыхание, и улыбнулся во весь рот:
— Тебе бы, Дочка, радоваться, а ты ишь что делаешь! Подержите-ка ее, — просит он.
Гурьяныч быстро развязывает телке ноги, и та вскакивает, отбросив нас всех в сторону, выбегает на свой след, скачет по снежному полю, затем переходит на шаг; не оглядываясь, не останавливаясь, обиженной, одинокой уходит к кромке леса.
У Пашки опускаются руки, глаза и рот широко раскрыты от удивления.
— Дедушка, зачем же отпустил? — возмущается Пашка.
Да и мне это непонятно.
А Гурьяныч как будто не слышит внука, стаскивает с головы шапку, машет ею в сторону удаляющейся Дочки, ласковыми глазами провожает счастливицу.
— Выходит, зря связывали телку, — обиженно продолжает Пашка.
— Нечего, внучек, жадничать, всего не заберешь. Нам и двоих хватит, управиться бы!.. А связывали не зря: снегу сгоряча нахваталась бы — и хана ей. Понял? А теперь, отдохнувши, ничего ей не страшно. Жить будет… Да и на приплод надо оставлять, иначе как можно! Подумай-ка об этом…
Мы видим, как за верхним краем кедрачей скрывается Дочка. Да, ей повезло, она попала в руки Гурьяныча.
— Счастливого пути! — кричит ей вслед парнишка.
Через несколько минут мы уже тащим на сохатиной шкуре связанную маралуху вниз по логу.
Метров через двести от борозды, проложенной еще в полдень зверями, бык свернул влево, мерным шагом ушел в боковой распадок.
— Надо до темноты управиться и с ним, — говорит Гурьяныч, сбрасывая с плеч лямку.
Мы оставили самку у сворота, а сами, набирая скорость, тронулись по следу быка.
От лога марал поднялся на выступ, окруженный с трех сторон отвесными скалами и соединенный с отрогом узким перешейком. Там он, видимо считая себя вне опасности, лег под старым кедром.
Услышав шаги, зверь вскочил, рванулся к проходу, но наткнулся на нас, осадил назад и стал грудью весь на виду — могучий, непримиримый. Его большие, круглые глазка, в которых отражался отблеск закатного солнца, были полны звериного гнева. Из раскрасневшихся ноздрей вырывались клубы горячего пара. В этот решающий момент поединка он, как никогда, был собран, уверен в себе.
— Смиришься, неправда!.. — говорит Гурьяныч, не отрывая взгляда от марала.
Он подает нам знак идти вперед. Осторожно все выходим к выступу, окончательно захватываем пути отступления зверя. Тот, кажется, понимает, что попал в западню, на какую-то долю минуты замирает и вдруг в стремительном броске вперед налетает на кедр, за которым едва успевает скрыться Гурьяныч.
Рог от удара о ствол лопается, кровь брызжет на снег тугими струями, заливает морду.
Бык отступает, пятясь задом, и мы видим, как он снова наливается силой.
— Этого не взять! — думаю я вслух.
— Надо поаккуратнее: зверь в опасности во много раз сильнее, — говорит Гурьяныч, не отрывая взгляда от быка.
А Пашка ни жив ни мертв, прижавшись к березе, пугливо выглядывает из-за ствола.
Гурьяныч, не торопясь и все время с опасением следя за быком, достает волосяной аркан, набирает его большими кругами в руку. Выходит из-за кедра. Человек и зверь стоят в пяти метрах друг против друга. Я с замиранием сердца, с какой-то боязнью за Гурьяныча, слежу за этим немым поединком.
Бык, не трогаясь с места, чуточку приседает и, горбя спину, уже готов обрушиться всей своей силой на врага, но в воздухе слышится свист аркана, Старик ловким броском заарканивает его и конец захлестывает за ствол кедра.
Марал вздыбился, рванулся вправо, влево, до хрипоты затянул на шее петлю и замер, упершись всеми четырьмя ногами в землю. Он взглянул на нас обезумевшими глазами, в которых не осталось и капельки страха, и бросился в пропасть. Аркан лопнул — и бык исчез за скалой.
Снизу донесся грохот камней и треск сломанных деревьев.
Пашка так и остался стоять, еще сильнее прижавшись к березке. На лице Гурьяныча и отчаяние, и виноватость, Я не могу прийти в себя от случившегося. Инстинкт жизни — самый могучий инстинкт — в последний момент толкнул зверя искать спасения в смертельном прыжке…
Мы подходим к краю обрыва, заглядываем вниз, но из-за карнизов не видно основания скал, куда упал бык.
День угасает на лохматых вершинах старых кедрачей, в морозном румянце заката. Дали прячутся в тумане. Неумолимая темень сползает с гор, окутывает дремучее царство хвойных лесов…
На душе тяжелое чувство вины.
Спускаемся под утес.
Зверь лежит шершистым комком, заваленный сучьями и снегом. В его помутневшем взгляде теперь нет ни гнева, ни беспокойства. Он умирает. Его дыхание становится все реже, глаза перестают закрываться, и мы видим, как угасает в них жизнь.
— Не покорился!.. — говорит с болью Гурьяныч и начинает снимать с шеи зверя обрывок аркана. Потом
поворачивается к внуку, долго молчит и пристально смотрит ему в глаза. — Уважать надо такое! Не смотри, что зверь, а геройски погиб за волю.
Пашка утвердительно кивает головой.
Еще с минуту мы стоим молча, охваченные чувством гордости за зверя.
— Пашка, айда на стоянку! Пусть Василий Николаевич запрягает Кудряшку и едет навстречу, а мы потихоньку потащим маралуху. Поторопись, внучек!
— Я, дедушка, вмиг добегу! — кричит Пашка, и в кедраче смолкает шорох его лыж.
Месяц огненным бубном виснет над темными кудрями сосен. Чуть посветлело в лесу.
Вот и закончился долгий и трудный день. Отбивает поздний час дятел. Настывает снежная корка. Только высоко в небе чуть заметный отблеск давно скрывшегося солнца.
В одиннадцать часов, уставшие, измученные, мы наконец добрались с живым грузом до палатки. Гурьяныч и Василий Николаевич еще долго возились возле маралухи: надо было сменить на ногах мокрые веревки, овчину и подостлать под бок побольше хвои.
В палатке жарко от накалившейся печки. В тепле еще больше обнаруживается усталость. Ужинать не захотели. Выпили по кружке чая — и спать. Сон был единственной наградой за дневные дела.
В печке гаснет пламя. Над полотняной крышей ночь, И засыпая, я думаю о том, какая разная судьба у этих трех маралов… Потом вспоминаю Пашку: ему повезло. Сколько впечатлений, сколько свежих мыслей, загадок! Все, что парнишка видел сегодня в природе, что пережил, несомненно осядет добрым слоем в его еще детской душе, Природа не терпит фальши, она воспитывает смелых, честных, сильных духом людей. Ее благотворное влияние на человека безгранично, и очень жаль, что мы порой недооцениваем этого.
С этим я засыпаю, но слышу рядом шорох и шепот: