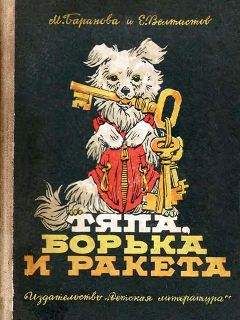Мягко захлопывается тяжелая дверь, замок запирает ее. Теперь стальная комната закупорена лучше, чем термос. Гудят насосы, откачивая из нее воздух.
Что будет?
Круглый выпуклый глаз иллюминатора властно притягивает к себе журналиста. Вслушиваясь в гул моторов, Анатолий Евгеньевич понимает, что с каждой секундой на испытателя все меньше и меньше давит воздух и этот человек как бы совершает подъем. Журналист замечает над головой испытателя прибор, похожий на часы. Ага, альтиметр! Вот он, друг всех летчиков! Он точно показывает высоту.
Неужели пять с половиной тысяч метров? Их, двух людей, разделяет только стальная стена и крепкое стекло; однако он, журналист, твердо стоит на земле, а испытатель может считать себя взошедшим на Эльбрус.
— Да, это высота Эльбруса, — словно угадав мысли журналиста, говорит за его спиной врач Дронов.
— Как чувствуете себя, Иванов?
Это спрашивает другой врач, он в кожаном шлеме с наушниками.
— Хорошо! — глухо звучит в наушниках голос испытателя.
А моторы гудят. Стрелка прибора все ползет. Выше, выше.
— Шесть тысяч… Шесть пятьсот… Семь… — считает вслух журналист.
— На такой высоте, — делится с Анатолием Евгеньевичем Дронов, — даже опытный спортсмен может внезапно потерять сознание. Я сам видел, как у одного альпиниста дневник выпал из рук, а он писал в тот момент: «Самочувствие преекрасссное»… Переоценил свои силы, потому и писал: «преекрасссное»… Да, немногие смельчаки достигали таких вершин, как Хан-Тенгри. А наш Иванов, пожалуйста, уже выше, чем пик Хан-Тенгри. И костюм — вы сейчас увидите это — позволит ему перескочить «порог смерти».
— Как самочувствие? — следует опять вопрос.
— Хорошее! — отвечает Иванов и машет рукой: качайте, мол, еще, можно и выше.
На столе с барабана медленно сползает бумажная лента. Приборы-самописцы чертят на ней волнистые линии, и врачи, посвященные в секрет рисунка, видят: сердце, пульс, дыхание Иванова нормальны. Иванов чувствовал себя отлично.
Вдруг ожила вода в стакане.
Со дна побежали цепочкой пузырьки воздуха, словно в стакане была не вода, а шампанское. Каратов теперь понял назначение стакана: пузырьки сигналят, что давление стало очень низким, ведь вода кипела при комнатной температуре.
Иванов наклонил голову и внимательно наблюдал за пузырьками. Он знал: вот так могла бы закипеть сейчас и его кровь; газ, растворенный в крови, зашипел бы пузырьками и раздул бы тело мгновенно в шар. Ведь раздуваются же рыбы, которых сеть вытаскивает с морского дна, они распухают прямо на глазах и даже лопаются — на них не жмет больше привычная тяжесть воды. Но он, испытатель, «поднялся» со дна воздушного океана на много километров и остался цел и невредим, потому что одет в замечательный костюм. Костюм обтягивает фигуру с такой же силой, с какой давит на человека воздух в обычных условиях, на того же журналиста, смотрящего в иллюминатор. Впрочем, журналист, наверное, не замечает этой тяжести. На земле не думаешь про воздух и не ценишь его.
Анатолий Евгеньевич действительно совсем не думал о тяжести воздуха. Он с восхищением наблюдал, как стрелка прибора перевалила за вышину величайшей горы мира Джомолунгмы, как достигла она высот полета аэростатов и современных самолетов и как Иванов после этого встал и прошелся по барокамере, словно он гулял в сквере.
— Самочувствие?
— Хорошее!
Испытателя окружал такой же разреженный воздух, в каком летают лишь высотные самолеты.
На этом опыт окончен. В камеру с шипением устремился воздух. Вскоре Иванов вышел.
Каратов поздравил его с успехом. Ему очень нравился этот спокойный, смелый человек.
— Как ваши впечатления? — спросил врач в шлеме.
— То, что я видел, — сказал Анатолий Евгеньевич, — лучше фантазии.
— Ну, всего лишь проверка защитного костюма. — Врач снял свой шлем и открыл высокий лоб, расчерченный линейками морщин. — Да, вот еще что, уважаемый Анатолий Евгеньевич. — Он взял журналиста под локоть и отвел в сторону. — Прошу вас об одном: чтобы читатели, ознакомившись с вашей статьей, не решили, что Иванов полетит в космос. Кто будет первым счастливцем и когда это случится, мы и сами еще не знаем. Можно лишь сказать, что первые космонавты будут одеты примерно так, как вы сегодня видели. Но до настоящих полетов у нас много еще работы. Летать пока будут безотказные разведчики — собаки. Кстати говоря, они сейчас привыкают к герметическим кабинам…
Когда Каратов попрощался с врачами и шел по коридору, он и не подозревал, что за одной из дверей, в маленькой, наглухо закрытой кабине с круглым окошком лежала знакомая ему собака. Она готовилась к встрече с третьим будущим противником — пустотой космического пространства.
По вечерам, когда собаки отдыхали, в клетки пробиралась скука. Собаки потягивались, пружиня вытянутыми лапами; из клеток вылетало несколько робких зевков. Через минуту все откровенно зевали. Кто-то при этом повизгивал, кто-то чихал, кто-то затягивал тихую жалобную песню.
Но едва появлялся дежурный врач, как настроение менялось. Человек заводил дружескую беседу, шутил, угощал сахаром.
Самыми забавными были разговоры с Мальчиком. Пес садился, наклонял голову набок, выражая внимание, и честно смотрел в глаза.
— Ай-ай-ай, Мальчик, — говорил врач. — Что же получается?
«Что?» — спрашивали честные глаза Мальчика.
— Вчера ни одного замечания, молодцом прокатился на центрифуге.
«Было такое дело!» — с гордостью подтверждал поднятый черный нос.
— А сегодня? Не успел войти в лабораторию, как прыгнул на мой стол и подмочил все бумаги!..
«Да что вы?» — Весь вид Мальчика выражал страшное удивление.
— Неужели ради этого надо было обязательно лезть на стол? — вопрошал пострадавший.
«Конечно, нет!» — понимающе махал собачий хвост.
— Есть у меня один знакомый пудель, — продолжал врач, — очень умная собака. Он никогда бы не допустил такой вольности. А ведь он живет в обыкновенной квартире. А ты, Мальчик, все же в институте. Ай-ай!
Чем больше было укоризненных «ай-ай», тем чаще моргал Мальчик. Он медленно вставал, уходил в угол и стоял там, повернувшись ко всем опущенным хвостом.
Незаметно кончался вечер. Приходил сон.
Каждую ночь щедро валил снег, и сугробы, не тронутые дворником, все росли и росли, тянулись к подоконнику. Оставалось совсем мало дней до той ночи, когда по сугробам должен был пройти и шагнуть в комнату Новый год.
Однажды вместо тренировки Кусачке и еще двум собакам — Пестрой и Мальчику — разрешили побегать во дворе по снегу. Потом собак взвесили, взяли у них на анализ кровь, в рентгеновском кабинете сделали снимки грудной клетки. Все это бывало и раньше. Но сейчас в действиях врачей чувствовалась особенная торжественность.
Событие, к которому в институте так долго готовились, должно было на этих днях свершиться.
— Валя, проверьте еще раз анализ крови Пестрой. Почему у нее отклонение от нормы? — волновался Василий Васильевич.
— Очень странно, — отвечала Валя. — Питание усиленное, сон спокойный. Как же так?
Неужели Пестрая заболела?
Василий Васильевич осмотрел собаку. Ходил по комнате, думал и ничего не мог понять.
— Знаю, знаю! — спустя полчаса объявила Валя. — Ее покусала Козявка. Зина Воробьева дала Пестрой конфету, а Козявка кинулась отнимать. Ну ничего, завтра у нее все пройдет!
Елкин укоризненно качает головой. А Валя рада, что Пестрая не заболела и таинственная причина оказалась совсем простой.
В эту ночь у мороза разыгралась фантазия, и он разрисовал стекла как только мог.
Утром Елкин, одетый в полушубок, пушистую шапку и валенки, нацепил на Кусачку, Пеструю и Мальчика ошейники, вывел собак на двор. Там их ждали три врача. А у окон были все сотрудники. Валя, Зина, Дронов, профессор и еще много других людей, добрые руки которых хорошо знали мохнатые испытатели. Они махали, что-то кричали в форточки.
У калитки — две «Волги». Елкин с собаками сел в один автомобиль, врачи — в другой. Путешествие началось при полном молчании, какое и бывает в особо торжественный момент. Лишь пели моторы, легко ведя машины навстречу цели.
Когда дверца распахнулась, четвероногая команда была удивлена открывшимся простором. Собаки озирались по сторонам и не могли понять, куда исчезли дома, улицы и вообще весь город. Перед ними лежало ровное заснеженное поле, на котором высились крылатые машины.
«А ведь самолет они, пожалуй, видят впервые, — подумал тревожно Елкин. — И еще это поле… Не почувствуют ли они себя снова бродягами? Не начнут ли лаять?»