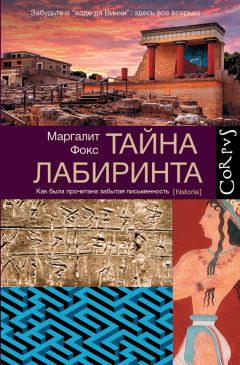— Шурка, ты про козу рассказывай.
— Опосля надумали ночью доглядеть за козой. На другой вечер заперли сарай на два замка. Наглотались самогонки и сели у окна. Лампу керосиновую потушили и ожидают. Час проходит — никого. Два проходит — никого. Луна светит, тишина. И вдруг дверь сарая сама по себе тихонько распахнулась, и оттудова выходит наша красная коза. Идет, как человек, на задних ногах, глазищами вращает, по сторонам глазеет и прет через двор, через огород, через лужайку и… и… под-хо-ди-т, — зубы у Шурки опять мелко застучали, — и… и подходит к старому кладбищу. Подошла к могиле и тута давай танцевать, и тихо петь человеческим голосом:
Сундуки у меня все окованы.
В них полным-полно чиста золота.
Но одной лежать шибко холодно.
И дедушка признал голос своей матери, которую в живых прозвали байкальской колдуньей. Пока коза танцевала, дедушка шмыгнул на улицу и перекрестил отворенную дверь сарая. А коза от энтого как прыгнет, и огненным пламенем ушла в небо…
Шурка замолчал, но, услышав, как Майка стучит в дверь, попросил:
— Петька, проводи меня домой, а то я в темноте не найду вашу калитку.
— А ты через плетень перелезь, — сказала Таня.
Но Петька уже открыл двери и вышел на крыльцо. Потом брякнул в сенях дверной крючок.
— Таня, тебе не страшно от Шуркиного рассказа?
— Чуть-чуть страшно. А почему красные козы не бывают?
— Один студент, который с папой ездил в экспедиции, мне рассказывал, что раньше, тысячи лет назад, у одного египетского фараона были красные козы, и их считали святыми, и на них молились, как на бога.
— Петька, а бог есть или нету, как ты думаешь?
— Я не знаю, Таня. Если есть, то он, наверно, злой.
— Петька, вставай лепешки делать на дорогу.
Петька легко спрыгнул с печки на пол.
— Еще же козу доить надо.
— Засоня, я уже подоила.
Через два часа шестьдесят больших лепешек, величиной с блюдце, были готовы. Таня подсчитала, что в тайте их хватит на целый месяц, а то и больше.
Вежливо постучав в дверь, зашел Тимка Булахов. Поздоровавшись, он положил на стол коробочку с солью, камушек, мягкую ватную веревочку, полукруглую железку, похожую на маленькую подкову, и две деревянные ложки. Тимка пощупал верхнюю лепешку и велел их все положить на плиту, но чтобы не горели, а сохли.
— А то в дороге заплесневеют, — объяснил он.
Кроме всего прочего, Тимка принес еще длинную крепкую веревку метров в тридцать.
— Мальчишки, а зачем камушек, железка и вата?
Тимка взял камушек, положил на него скрученную ватку и ловко ударил железкой. Искорки полетели на ватку, Тимка стал ее раздувать, и она задымилась.
— Вишь, Таня, огонь получили без спичек.
Петька вытащил из-под лавки Шуркин желтый мешок, и мальчишки стали укладывать туда все необходимое: старую Петькину рубашку, длинную веревку, котелок, деревянные ложки, коробочку с солью, шило и другие мелкие вещи. Сверху Таня положила небольшой мешочек с мукой. Нож, компас, арбалет решено было нести в руках.
— Достать бы маненько пороху! — Тимка показал на кончик пальца: — Хотя бы пол-ложки. Торбеев зарядил бы патрона три. Нам бы хватило за глаза. Торбеев, он фартовый, мимо еще ни разу не стрелил.
У Петьки вдруг заблестели глаза. Он повернулся на месте, бросился в комнату, схватил свой узелок, привезенный из Краснокардонска, и стал развязывать. Таня и Тимка с удивлением следили за ним. Вот Петька развернул маленький газетный сверток, разорвал синюю тряпочку и радостно воскликнул:
— Целые!
Он показал на ладони обойму от фашистской винтовки с пятью толстыми патронами.
— Мы из них порох только вытащим, а Торбеев насыплет его в свои патроны.
— Петька, они взорвутся, когда их разбирать начнем. Боязно.
— Если головка пули красная, тогда опасно. Я сейчас покажу, как их разряжать.
Петька взял пулю, засунул ее в щель и стал осторожно заламывать. Острая пуля медленно вылезла из гильзы. Порох оказался какой-то зеленый, с резким неприятным запахом. Петька осторожно ссыпал его в маленькую бутылочку. Остальные патроны разрядил Тимка. Пороху получилась чуть ли не полная бутылочка. Взяв с собой дневник командира, ребята быстро пошли к деду Торбееву. По дороге к ним присоединился Шурка Подметкин.
Торбеев лежал на нарах и накладывал себе на плечо какую-то примочку из травы.
— Худо мне, совсем худо. Грешным делом думал, что ночью помру. Разболелись мои болячки, жар пошел. — Торбеев пощупал свой морщинистый лоб. — Окаянный убивец!
— Дедушка, мы лепешек вам принесли.
— Ох, Танечка, не беспокойся, я и без хлебушка проживу, себе оставьте. Корешков я нынче заварил хлебных, дня на три мне хватит. Спасибо, родные.
— Спасибочки опосля говорить, дедуля, будешь, — сказал Шурка Подметкин и положил лепешки на полку.
— Дедушка! — Петька стал шарить в кармане: — Мы пороху винтовочного принесли.
Рассматривая крохотную бутылочку-пузырек, Торбеев несколько порошинок вытряхнул на стол, попробовал раздавить их пальцем.
— Добрый порошок, зарядов на восемь хватит. Вечерком, ежели полегчает, патроны заряжу.
Через несколько минут, когда переговорили о всех неотложных делах, Таня начала читать дневник. Командир Быль-Былинский записал:
«…Стал вести карту, черчу ее на крайней странице дневника. Мулеков охотно мне помогает». Таня стала переворачивать листы, чтобы разыскать карту, но Петька ее остановил:
— Не ищи. Карту вырвал Мулеков и, наверно, потерял ее или не может расшифровать. — Петька кивнул головой на дверь. — Не зря же он сюда приходил.
Таня стала читать дальше.
«Путь, пройденный по моему маршруту, оказался счастливым. Вышли в большую, еще зеленую долину. Здесь почему-то теплей, чем везде. Приказал остановиться на двухдневный отдых. Развьюченные лошади стали жадно щипать мягкую траву. Люди повеселели, чинили сeбe обувь и одежду. Одежда вызывает во мне тревогу. У многих уже видны голые локти и коленки. Но с пищей опять повезло. На привале один из бойцов увидел в долине какую-то серую точку. Она двигалась. Иногда становилась больше, иногда меньше. Я, никому не говоря, взял карабин, позвал с собой бойца Воробьева и по кустам стал подкрадываться. Огромный медведь пасся на склоне. Лапами он разрывал землю так энергично, что мелкие камушки чуть не долетали до меня. Медведь был увлечен своим делом и ничего не замечал. Вытаскивая из земли какие-то белые корешки, он ел их, громко чавкая. Я заполз за камень и, обернувшись, рукой показал бойцу Воробьеву, что буду стрелять. Он кивнул.
Я прицелился. Зверь повернулся ко мне своей огромной мордой и, видать, почуял нас, маленькие ушки прижались, шерсть на загривке встала дыбом. От выстрела, казалось, обрушились скалы. Медведь попятился, взревел и прыгнул в сторону. Меня он не увидел, и я успел выстрелить второй раз. Он прыгнул в мою сторону и на задних лапах пошел на меня. Передернув затвор, я опять выстрелил; как мне показалось, попал в голову. Он заревел и на мгновение остановился. Выстрелив четвертый раз, я бросился за дерево. Одним прыжком зверь настиг меня. Ударом лапы переломил сосну, разделявшую нас, и тут я последнюю пулю всадил ему прямо в лоб, уперев ствол в голову. От удара его лапы карабин разлетелся в щепки. Я упал, пытаясь выхватить нож. И тут между мной и медведем возник красноармеец Воробьев с наганами в обеих руках. От первого же выстрела медведь рухнул и перевернулся на спину, задрав лапы так, что я видел его запачканные глиной подошвы. Бистро я вскочил на ноги и стал себя ощупывать. Кости были целы. «А синяки, товарищ командир, сойдут», — пошутил Воробьев.
Подошли к медведю. Что за черт! Я всегда хорошо стрелял, а тут какое-то колдовство. Наклонившись к огромной разинутой пасти медведя, я двумя руками ощупал его череп. Кости были переломаны, потому что под ладонями они ходили ходуном. Позднее, когда мы сняли с него шкуру, все пять моих пуль обнаружились в голове. Какой живучестью наделила природа этого зверя. Пуля из нагана Воробьева сидела в самой середине звериного сердца.
Уставшие бойцы пировали до вечера, делали шашлыки, жарили мясо на камнях. Мулеков почему-то был угрюмым. Его я спросил, доводилось ли ему коптить мясо в таежных условиях, чтобы заготовить пищу впрок. «К сожалению, коптить не умею», — ответил он.
Вынимая документы из переметной сумки, я заметил, что лошадь моя дрожит, Я сказал об этом Мулекову, он, небрежно посмотрев на лошадь, ответил, что она напугалась медведя. Но красноармеец Величко возразил, что лошадь мою стало трясти до медведя и причина, вероятно, кроется в чем-то другом. Вечерняя заря гасла, сгущались сумерки. Слева, на низкой горе, мы услышали, как под чьими-то ногами скрипит и осыпается вниз щебень. Мы насторожились, держа наганы наготове. И вдруг раздался голос человека: «Эй, эге-е-гей! Стрелять, однахо, не надо!»