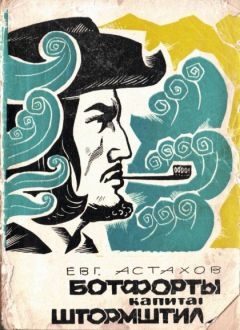— Что же делать? Что же делать? Сорок и семь десятых! ..
Чей-то ворчливый голос отвечал ей:
— Ничего страшного. От первого приступа еще никто не умирал, коллега...
С грохотом посыпались из клюзов тяжелые звенья якорной цепи. Этот грохот заполнил всю комнату до самого потолка, вытеснив из нее и мамин шепот и недовольный голос незнакомца.
В стальных снастях засвистел взбесившийся ветер. Человек в защитном френче и в высоких шнурованных ботинках, совсем таких, как у Серапиона, орал, размахивая маузером:
— Я правительственный комиссар Макацария! Я приказываю начать погрузку и к утру выйти в море.
— На борту правительство — это капитан, гражданин Макацария. Будет капитан — будет и погрузка, будет и рейс.
— Через сутки сюда придут большевистские головорезы! Вы можете это понять, идиоты?
— Мы всяких видели, гражданин Макацария. Посмотрим теперь на большевистских.
— Открыть трюмы, сволочи! Погрузку будут производить солдаты моей личной охраны! Кто попытается дезертировать с судна — расстреляю!..
Гремит, гремит якорная цепь. Она бесконечна, кажется, все трюмы забиты ею и некуда грузить мешки с какао и кофе и тюки мягкой шелковистой альпаки...
Тошка мечется по кровати. Горячая простыня, горячая подушка, горячее тяжелое одеяло. Ему кажется, что он катится по раскаленной солнцем прибрежной гальке. Еще мгновенье — и все оборвется и он полетит вниз, в холодную бездну. Вода сомкнется над головой, заколет тело ледяными иголками. Озноб растрясет зеленый, зыбкий полумрак, и Тошка вновь услышит голоса незнакомых ему людей, о которых рассказывал в своей сторожке боцман Ерго...
Черные пасти трюмов глотают тюки шерсти, чудесной шерсти — альпаки. В ней будто спрятано горячее солнце Перуанских гор. На Тошку опускаются мягкие теплые тюки, и озноб начинает униматься, перестают клацать зубы, льющиеся по спине ледяные ручейки замирают, растворяются в нахлынувшем тепле.
Белые связки мешков на тонкой нитке лебедочного троса. Они опускаются в жадно разинутую пасть трюма, словно огромные пилюли хинина. Но это не хинин — это сахар. Он стоит сотни тысяч. Потому что его нет. Нет во всей бескрайней, разоренной и голодной стране.
Но сахар принадлежит акционерному обществу, которое возглавляет сытый господин Караяниди, Принадлежит так же, как и пароход «Цесаревич Алексей», и бетонные пакгаузы, и причалы Старой гавани.
Плотные мешки из джута... В них кофе.
Ящики из крепких досок... В них высокие жестяные коробки с бобами какао. Коричневые плоские бобы, похожие на сплющенную фасоль. Маслянистые и горьковатые на вкус. Из отжатого масла кто-то сделает шоколад, из размолотого в пыль остатка — пахучий порошок какао. Все это стоит миллионы. Потому что всего этого нет в разоренной, измученной долгой войной стране...
— Сейчас его прошибет пот, коллега. И сразу же упадет температура. На третий день приступ повторится, но мы попробуем перехватить его инъекцией хинина, да-с...
Но Тошка слышит совсем другое: свист ветра, гул взбудораженного штормом моря и глухие голоса людей. Тех самых, из рассказа о последней ночи.
Высокий широкоплечий человек стоял по колено в воде, ухватившись за борт фелюги. Крутой накат хлестал его в бок короткими, злыми ударами. Галька с рокотом катилась вниз, ударяя человека по ногам, пытаясь сбить его, вырвать фелюгу из цепких рук.
— Я должен сам во всем убедиться, — сказал стоящий в фелюге бородатый моряк в форменном кителе. Короткая, мокрая от брызг пелерина была накинута на его плечи. Пусти меня, Дурмишхан, я пойду.
Дурмишхан покачал головой. Лицо его было наполовину закрыто серым колючим кабалахи — островерхим башлыком с кистью. Только поблескивали белки глаз.
— Зачаль фелюгу! — нетерпеливо приказал моряк. Я пойду!
— Куда пойдешь, капитан? К Макацария пойдешь? К шакалу в зубы? Поверишь его визгливому лаю?
— Я должен узнать, где моя жена и сын! Если их действительно похитили большевистские комиссары — это подлость и варварство! Брать в залог женщину и ребенка!
— Десять лет назад ты спас меня. За мной гнались, но ты никого не побоялся, взял на борт, перевязал мне раны, спрятал в своей каюте. Никто не посмел обыскать каюту капитана Борисова! Даже жандармский ротмистр князь Дадешкелиани. Теперь моя очередь, капитан. Я сам все узнаю. Тебя они не выпустят, заставят повести «Цесаревича» в Трапезунд...
Чернели ненасытные пасти трюмов. Дюжие молодцы из личной охраны правительственного комиссара Макацария торопливо сновали по сходням. А где-то, за синими заборами гор, шел походным маршем полк Михаила Таранца. Серые от пыли буденовки, темные от пота, опавшие бока усталых коней. Голубоглазая девочка с золотыми косами металась в жару. Подпрыгивали на каменистой горной дороге колеса телеги, в горячее тело впивались желтые соломенные стрелы, и бойцы, идущие рядом, поправляли сползающую шинель, которой была укрыта комиссарова дочка Оля Таранец...
В комнате с низким потолком тускло светила керосиновая лампа. На стенах и на полу ковры. Они глушили шаги и голоса. Тонкая, как тростник, молодая женщина куталась в темное шелковое покрывало. На тахте, раскинув руки, спал маленький мальчик.
— Спеши, Дурмишхан, — сказала женщина. — Может, ты еще успеешь.
Дурмишхан посмотрел на спящего сына, осторожно тронул влажные завитки черных волос, упавшие на смуглый выпуклый лоб. Связки эвкалиптовых веток висели на ковре, от их терпкого густого запаха першило в горле.
— Он уже здоров, совсем здоров. — Женщина прикрутила в лампе фитиль. — Не бойся за него.
Дурмишхан поднялся с тахты и, продолжая смотреть на сына, спросил:
— Что говорят в городе, Ники? Где жена капитана Борисова? Где ее искать?
— Она умерла, Дурмишхан. Ее заставляли писать письмо капитану. Чтобы тот вернулся на пароход и увел его в Трапезунд.
— Ты все узнала, Ники? Это люди Макацария? Ты хорошо это узнала?
— Да. Большевики из Тифлиса ни при чем. Ее пытали, Дурмишхан, и она умерла,
— А мальчик?!
— Мальчика пока прячут. Но Карзуи знает адрес. Силой ты не возьмешь, Дурмишхан. Их там четверо, и у них есть этот... телефон. Они и мальчика могут...
— Где твои серьги, кольца, браслеты? Дай все мне. Все дай!.. А сама возьми Ерго и уходи из дому. Будь у Карзуи, пока я не сделаю что надо и не приду за вами. Ты поняла меня, Ники?
— Да, Дурмишхан... Ты пойдешь к Макацария?
— Иди, Ники! Разве я должен говорить женщине, что собираюсь делать? Иди!
— Иду, Дурмишхан...
Над городом повисла ночь, непроглядная и душная, как плотное шелковое покрывало на женщине. Потушены фонари, потушены огни в домах, город сделал вид, что он спит в эту последнюю ночь его старых хозяев...
В комнате с высокими лепными потолками ярко горе большие хрустальные бра. В ней было неуютно и пусто: скатанные ковры, как громадные сигары, распахнутые массивные дверцы потайных сейфов, похожие на оскаленные рты. Толстый человек с одутловатым лицом сидел, положив руки на круглые подлокотники глубокого кожаного кресла. Фетровая феска на бритой голове, замшевый дорожный костюм и янтарные четки в руках. Это был Караяниди — хозяин Старой гавани.
Щуря от яркого света красные больные глаза, он следил за человеком в защитном френче и высоких, шнурованных до колен ботинках. Бегая по кабинету, тот спотыкался о скатанные ковры и, возбужденно жестикулируя, говорил:
— Все в порядке, господин Караяниди, все в порядке! Я не разделяю ваших опасений. Капитан Борисов поплывет
куда угодно. Мы покажем ему окровавленное платье его супруги — неопровержимое доказательство большевистского террора.
— А если он догадается, что это ваша работа, господин Макацария? — Караяниди вынул платок, протер фиолетовые стекла пенсне, прикрыл им слезящиеся глаза. — Тогда что?
— Полностью исключено! Он никогда не поверит, что такое могли сделать мы, люди его круга.
— Однако... — Караяниди усмехнулся. — Вы... забавный человек, господин Макацария. Весьма забавный.
— Если он и после этого откажется, у нас в запасе его сын. Я ни перед чем не остановлюсь! И церемониться не стану. Ротмистр Дадешкелиани выполнит любое мое указание. Это верный человек.
— Я вижу, вы решительные люди.
— Мы просто не забываем о договоре, мсье Караяниди. Двадцать процентов стоимости груза, так ведь?
— Доставленного в Трапезунд, господин Макацария,— напомнил Караяниди. — Как говорим мы, коммерсанты,— франко-Трапезунд...
Южный ветер летел вдоль берега. Он нес дожди, туманы и запахи. Это могли быть запахи цветущего тамариска или просмоленных сельдяных бочек, или согретых солнцем лагун, схваченных коралловыми браслетами атоллов.
Но бывает, что южный ветер вдруг начинал пахнуть порохом, кровью и человеческой подлостью.
Дадешкелиани шел, скользя по мокрой гальке. Он напряженно всматривался в темноту, стараясь что-то разглядеть в предрассветной мгле, висящей над морем. Время от времени останавливался и, сложив рупором ладони, кричал: