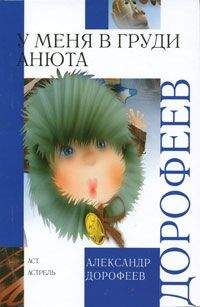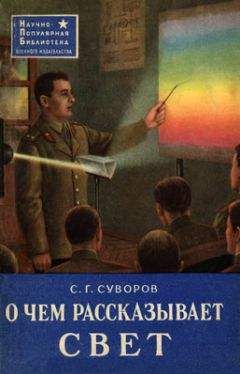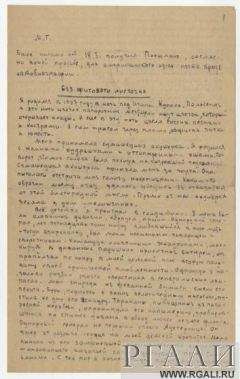Монахи оказались крепки духом. В ссадинах и кровоподтеках, изодранные, но пощады не просили.
Хуан, правда, затравленно озирался, готовый огрызнуться, как загнанный волк. А Бартоломео вообще глядел спокойно, чуть ли не улыбаясь.
Казалось, ему заметен дух сомнения, терзающий Чанеке.
– Что с нами сделают, ахав? – спросил он так, будто интересовался, какие блюда подадут к обеденному столу.
– На костре вас не сожгут! – успокоил Чанеке. – Это у нас не принято. Обычно вспарывают грудь обсидиановым ножом и вырывают сердце! Хотя могут быть другие истязания… Слышите шум толпы?
– Мы станем мучениками за веру! – срывающимся шепотом произнес Хуан. – Что лучше такой смерти?!
– Я думаю, что лучше жизнь, – возразил Бартоломео.
Чанеке улыбнулся:
– Если попросите Цаколя-Битоля, вас помилуют!
– О, дьявольское имя! – сморщился Хуан, затыкая уши и придерживая укушенную щеку. – Противен даже звук!
– Я лишь предлагаю обратиться к Творцу, – пояснил Чанеке, – как бы ни звучало Его имя на разных языках, Творец един для всех народов. Ведь все мы созданы по образу и подобию Его духа!
Бартоломео приподнялся с каменных плит:
– Надеюсь, не его идола разбил пылкий брат Хуан? – спросил он. – В таком случае я обращусь к Всевышнему Творцу. Как звать по-вашему?
– Цаколь-Битоль, – подсказал Чанеке.
Бартоломео встал на колени и поклонился:
– Убереги нас, Цаколь-Битоль! Спаси от нелепой смерти на этом прекрасном острове!
– Отступник! Прельщенный сатаной! Анафема тебе! – в бешенстве заорал Хуан, подскакивая с пола. – Режьте меня, рубите – плевал я на ваше поганое божество!
Чанеке с грустью поглядел на монаха:
– Увы! Ты презираешь не его, а всех нас, живущих среди сельвы. Хотя даже не знаешь, за что! Да ты, я думаю, не знаешь и своего распятого Бога, потому что не могло быть в нем презрения и ярости. Это чувства толпы, которая буйствует в твоей голове. Я бы исцелил тебя, да не моя забота. Ступайте с миром…
И Чанеке велел перевезти монахов через озеро, снабдив пищей на семь кинов пути.
Пока Хуан и Бартоломео плыли в пироге, не перемолвились и словом. Даже не смотрели друг на друга, укрывшись капюшонами.
Издали они еще больше напоминали двух грустных обезьян-мириков, пойманных для продажи на рынке. Известно, что на вопль о помощи собирается все стадо этих цепкохвостых обезьян, целая шумная, воющая орава.
И Чанеке опять усомнился:
«Они ведь могут вернуться со множеством таких же, как брат Хуан, людей, у которых в головах свирепая толпа. Да и каков бы ни был бедный Циминчак, а покушаться на святыню в храме – чистый разбой! Наверное, следовало вырвать их сердца. Впрочем, еще не поздно послать погоню!»
Так рассуждая, Чанеке взошел на пирамиду и долго рассматривал обезглавленного Громового Тапира.
Он выглядел не так уж плохо. Даже прекрасно выглядел, если забыть, что кое-чего ему не хватало. Ну, это быстро забудется!
«Вот настоящее божество толпы», – подумал Чанеке, смахивая щеткой пыль.
И тут же засомневался, не хватил ли он лишку в своих суждениях.
Колесо времени вращалось бесшумно, и казалось, что годы едва покачиваются на месте, шурша чуть слышно, как прибрежные камыши.
Именно в камышах на берегу озера Балам и Бошито поймали дикого котенка оселотля. Братьям было немало лет, уже совсем не дети, а взрослые мужи. Однако целыми днями возились с оселотлем, обучая разным штукам, – ходить на задних лапах, прыгать в кольцо, ловить мяч зубами, подкрадываться к игуанам, греющимся на солнце, притворяться шкурой, лежащей в пыли, считать до двадцати и отвечать на простые вопросы, урча или мигая.
– Без этих навыков ему трудно придется в жизни! – говорил Балам, когда бабушка Сигуа интересовалась, зачем простому оселотлю такая образованность.
Оселотль вырос здоровенным котярой. Величиной с пятилетнего мальчика, если стоял на задних лапах, и не менее смышленый.
Его густой мех с красивыми продольными полосами на бурой спине и пятнами на светлых боках переливался под солнцем. А широкие округлые уши вмещали звуки всего города, озера и прилежащей сельвы. Он напоминал хорошо подготовленного воина, которому уже снятся близкие битвы.
И вот однажды безлунной ночью оселотль передушил ровно двадцать павлинов, индеек и цесарок, невинно дремавших на ветвях деревьев или под открытым небом на земле.
Дворцовый сторож заметил самое начало этой расправы, когда Балам что-то нашептывал оселотлю, а Бошито показывал круглое число двадцать, складывая пальцы рук и ног.
– Никто его не науськивал, – отпирались братья. – Вообще это не наш оселотль, а пришлый. Да наверняка сам сторож передушил крикливых птиц, потому что спать не давали!
Прошла неделя, и ранним утром нашли того наблюдательного сторожа на городской площади. Он лежал навзничь, глядя в небо, – с разорванным горлом.
На каменных плитах не осталось никаких следов, а братья клялись, что их оселотль всю ночь сидел на привязи.
– Зачем придирки и подозрения? – обижался Бошито. – Может, вновь объявился ягуар?! Бабушка Сигуа еще помнит его проделки!
– А мы дни напролет играем в пок-а-ток! – щурился рысьими глазами Балам.
И это была почти правда.
Неподалеку от пирамиды Циминчака располагалось поле, протянувшееся между массивными стенами, из которых торчали два каменных кольца. Тут-то и сражались в пок-а-ток.
В былые времена это была не столько игра, сколько священный обряд, совершавшийся по большим праздникам, когда колесо майя заканчивало полный оборот в сто четыре туна.
Надевали толстокожие шапки и грубые кожаные щитки – на плечи, бедра и ноги, – потому что мяч из каучуковой смолы был твердым и тяжелым, будто кокосовый орех.
Его отбивали, как получалось, – всем, чем могли, за исключением рук.
Каучуковый мяч носился над полем, подобно черной птице Кау, – со свистом и резкими вскриками, когда бил кому-нибудь в глаз. Игроки были в синяках и шишках, а иные, зазевавшись, лишались зубов.
Но если мяч пролетал сквозь каменное кольцо, что происходило не часто, все ликовали – значит, удалось пронзить само время и перейти из этого мира в лучший!
Игрок, угодивший мячом в кольцо, становился, конечно, героем.
С тех давних пор все изменилось, и в пок-а-ток играли чуть ли не каждый день. Для развлечения и ради молодечества. Обычно две команды, по шесть человек в каждой.
Балам и Бошито подобрали себе компанию из каких-то особенно темных личностей.
Вообще, заслышав о веселье в городе Тайясаль, туда устремились самые странные существа. То ли еще не люди, то ли уже не совсем. Вполне вероятно, потомки глиняных и деревянных.
Сначала братья предложили играть на интерес, то есть на изделия из птичьих перьев, на украшения из нефрита, на оружие или одежду, на бобы какао или на рабов. Словом, перед каждой игрой договаривались, что получает победитель.
Затем Балам придумал еще одно правило.
– Если мяч попадает в кольцо, игроки раздевают зрителей! – ухмылялся он. – Чтобы те не заскучали!
Никто не обратил внимания на это новшество. Ну, пусть будет. Так редко в последнее время мяч пролетает сквозь кольцо, что и говорить-то не о чем…
Но Балам хорошо знал, о чем говорит.
На другой день братья заявили, что выходят на поле втроем против шестерых, и появились с оселотлем, выступавшим с достоинством на задних лапах, одетым, как полагается, в кожаную шапку и щитки.
– Позвольте! – стали возражать соперники. – При чем тут хищник?!
– Да-да, при чем тут хищник? – кивнул Балам. – Это наш младший брат!
– Мы можем и обидеться, – сказал Бошито, почесывая оселотля за ухом.
С ними опасались спорить и ссориться. Во-первых, дети ахава, а во-вторых, – дикие, почти хищники. Почему бы оселотлю и не быть их братом?
Однако играл он, как никто другой! Совершая немыслимые кульбиты, перехватывал все мячи. И с каждым, зажатым в зубах, проскакивал сквозь кольцо – на высоте в три человеческих роста. Недаром получил хорошее образование.
– Мяч в кольце! – орал Балам, и они втроем бросались раздевать зрителей.
А при виде оскаленной пасти оселотля кто бы не отдал одежду и все украшения? В общем, это был настоящий грабеж, хотя и по правилам.
Чанеке разгневался, узнав, что вытворяют братья. Впервые он отлупил их пальмовой метелкой.
Но тут же усомнился, хорошо ли это, верно ли? Ведь сам виноват, что уродились такими!
«Дети затмения – они были зачаты человеком без лица, – думал Чанеке, – дети моих сомнений!»
Глядя на Балама и Бошито, он вроде бы понимал, откуда в них неукротимая дикость, – всего сверх меры.
Сам испытывал подобное, но старался усмирять, не давать воли.
Он боролся со своим вторым «Я», с хромым койотом Некоком. Хотя не всегда успешно. Теперь с горечью, краснея, вспоминал, как бывал груб с бабушкой Пильи и мамой Сигуа, как не замечал Бехуко.