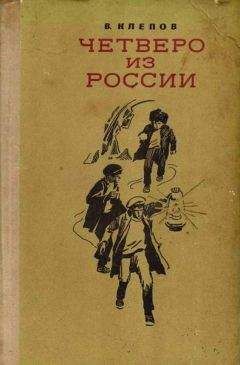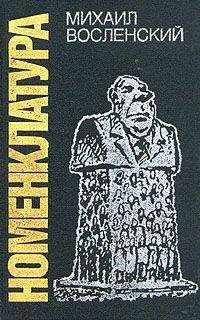«Все кончено. Они снова наступают. А как жить без Родины? Чтобы вечно над тобой издевался Камелькранц? Проклятый горбун надругался над моей девичьей честью.
Но я не уйду так просто. Я накормила сулемой всех коров мадам Фогель. Пусть хоть ими поплатятся немцы за позор и надругательства над русской девушкой.
Пишу, чтобы никого из вас не мог оклеветать проклятый горбун.
Прощайте, дорогие друзья! Прощай, Владек! Прощайте, русские мальчики!
Груня Бакшеева».
Когда я перевел содержание записки, Копецкий обхватил голову руками и так сидел, раскачиваясь из стороны в сторону.
– Перестань, Владек! – грустно сказал Юзеф. – Теперь уж ничего не поделаешь.
– Я его убью! – вскочил Владек. – Все равно убью!
У меня перехватило дыхание. Я тогда еще не мог понять всего, что произошло, и только смотрел на Владека и думал, как ему тяжело, если он клянется убить Камелькранца!
– Нет, – решительно заявил я ребятам, когда Сигизмунд уговорил нас пойти спать. – Надо бежать! Неужели мы только на то и способны, чтобы воевать кашей с хозяевами?
– Давай, Молокоед, составляй маршрут, – откликнулся из темноты Димка. – Ты мастер насчет маршрутов.
– Не смейся, Дубленая Кожа, – серьезно проговорил Левка. – Надо что-то делать.
– А ты знаешь, куда бежать? – приподнялся на локте Димка. – И что ты есть будешь? Как оденешься? Нас в этой одежде поймают на первом же километре!
– Здесь тоже сидеть нечего! – возразил Левка. – Что ж мне голову, что ли, совать в петлю? Как Груня?
В тяжелом раздумье я вышел во двор. Поляки уже разошлись. Небо было чистое и безоблачное. Легко отыскав среди множества звезд Полярную звезду и встав к ней лицом, я определил, где восток.
Из тех сведений по географии, что дали нам в пятом классе, я знал, что если двигаться из Германии все время на восток, можно попасть в Советский Союз. Так что, если даже никого не расспрашивать о дороге, мы, пожалуй, могли бы только по солнцу и Полярной звезде добраться домой. Но как достать продовольствие и одежду, не вызывающую подозрений?
Мне почудилось, что во дворе кто-то всхлипывает. Неужели все еще плачет Владек? Оглянувшись, я заметил человека, сидящего прямо на земле у стены господского дома. Каково же было мое изумление, когда, подойдя, я узнал Луизу. Уронив голову на руки, она рыдала, содрогаясь всем телом.
– Ты о чем? – тихо спросил я по-немецки.
Девчонка вскочила на ноги.
– О чем ты плачешь?
– Груню жалко… – всхлипывая, проговорила она по-русски.
Молниеносная догадка чуть не заставила меня вскрикнуть:
– Так это ты говорила с нами ночью и подкладывала под пол хлеб?
Луиза кивнула.
– Почему же молчала?
– А как я скажу, если с меня не спускают глаз? А этот паршивец, – с неожиданной ненавистью прошептала она, – следит за мной целыми днями.
– Карл?
Служанка стала говорить о том, как издевается над ней маленький барон. Он рвет ей волосы, вкалывает под кожу иголки, а когда Луиза пробует кричать, хозяйка утешает ее:
– Карл шутит с тобой, а ты ревешь…
– Хочешь, убежим? – спросил я.
– Ой, только об этом и мечтаю! – воскликнула девочка.
Мы договорились, что она будет помогать нам в осуществлении плана бегства. Ей сравнительно легко прятать куда-нибудь непортящиеся продукты и подбирать для нас подходящую одежду.
– Все, все сделаю, – горячо шептала Луиза. – Только вы меня не оставляйте одну.
Я вошел снова в амбар. Димка лежал на спине и не спал.
– А где Левка?
– Не знаю. Наверно, во дворе.
Но и во дворе Левки не было. Обеспокоенные, мы уселись на солому.
Вдруг, тяжело дыша, из-под пола выполз Левка.
– Ты где был?
– Там меня нет, – хихикнул Левка. – Я сейчас бегал на гумно…
Мы посмотрели в ту сторону, где было гумно. Из-за леса выбрасывалось желтое пламя.
– Это им за Курск и Груню! – с каким-то торжеством произнес Левка.
И один сказал, что нету больше
Силы в сердце жить вдали от Польши.
И второй сказал, что до рассвета
Каждой ночью думает про это.
Третий только молча улыбнулся
И сквозь хаки к сердцу прикоснулся.
К. Симонов. «Баллада о трех солдатах»
Пожар на гумне и отравление стада не могли пройти даром. Надо было опасаться серьезных последствий.
И верно, следующее утро началось с того, что пожилой полицейский вывел во двор Владека Копецкого со скрученными руками. При обыске у поляка нашли записку Груни, которую немедленно схватил управляющий. Сейчас он горбился посреди двора и с дьявольской улыбкой смотрел на поляка.
– У, изверг! Мразь! – злобно бросил в сторону Камелькранца Копецкий и, обернувшись к товарищам, громко крикнул: – Прощайте, братья!
Больше никто пока не пострадал. Лиза объяснила потом причину «миролюбия» Фогелей. Баронесса боялась, что огласка всей истории выставит ее перед знакомыми в невыгодном свете и сделает посмешищем, а Камелькранц больше всего опасался за судьбу хозяйства. Ведь гестапо могло взять батраков, а он в самый горячий момент страды остался бы без рабочих рук.
Никогда не забуду, как наша Птичка появилась во дворе после злосчастного обеда в честь победы германских войск. Мрачная, с красными пятнами на щеках, она вошла в коровник, где лежали вздувшиеся трупы коров, постучала по тугим бокам концом огромной лакированной туфли и спросила:
– Почему она отравила их, погань проклятая?
– Н-не знаю, – пробурчал горбун.
– Как это вы не знаете, господин управляющий? – вмешалась Юлия, которая была тут же, в коровнике. – Груня обо всем написала.
– Написала? – вскипела Птичка. – Ничего не понимаю. Где записка? Почему ты скрываешь от меня, что есть записка?
– Я ничего не скрываю, Марта, – юлил горбун. – Только не знаю, куда девалась она.
– Дай записку! – подняла на управляющего неживые глазки баронесса.
Камелькранц искал дрожащими руками по всем карманам и приговаривал:
– Ей-богу, не знаю, Марта. Наверно, потерял.
– Тебе говорят, дай записку! – шептала баронесса, бледнея и облизывая тонкие губы.
Наконец управляющий отыскал записку и подал сестре. Баронесса взглянула на нее и, поморщившись, подала мне:
– Переведи!
Я перевел, делая особое ударение каждый раз на имени Камелькранца. Баронесса бросила из-под прищуренных век обжигающий взгляд на горбуна:
– Идем, Фриц, в комнату!
Они ушли, а через полчаса мы слышали, как Птичка плакала и сквозь слезы кричала:
– Вон! Тебе не стыдно? Ты разоришь меня!
Камелькранц, красный и растерянный, выскочил из замка и, не попадая руками в карманы, крикнул:
– Отто!
Я усмехнулся. Неужели Верблюжий Венок не помнит, что Отто глухонемой?
Отто, не слышал, продолжал подметать двор. Управляющий, подрагивая горбом, дернул работника за рукав, грубо начал орать:
– Ты что тут прохлаждаешься? А коров кто обдирать будет?
Отто с напряжением глядел на губы хозяина, потом, мыча, сердито ткнул рукой в сторону покойницы, лежавшей под простыней у нашего амбара.
– Пошел к черту! – орал горбун. – Надо обдирать коров!
Нас не погнали в это утро в поле. Пленные сидели около своего барака и разговаривали о чем-то, все время кивая на покойницу. В дальнем углу Юзеф с Сигизмундом сколачивали гроб. Наконец они уложили в гроб тело Груни, вышли на середину двора, и Сигизмунд громко провозгласил:
– Панове! Отдамы остатне пошаны нашей Груни![50]
Поляки стали подходить прощаться. Гроб подняли и на руках понесли со двора. Нас сопровождал Отто.
Когда все вышли, я оглянулся. В воротах, мрачно ощерившись, стоял Камелькранц в кожаном фартуке и с большим окровавленным ножом.
Путь от замка до кладбища, уже известного читателю, мы проделали в два раза медленнее. Опустили гроб в землю. Засыпали землей могилу. Один из поляков стал устанавливать в изголовье огромный крест.
– Вы – что? – вскрикнул Левка. – Надо поставить звезду!
Заремба мрачно усмехнулся:
– Гитлеровцы выбросят твою звезду в первый же день!
– А мы снова поставим, – не унимался Левка.
– А они опять выбросят…
– А мы снова поставим!
– Правильно, Левка, ты – молодец! Пусть даже смерть наша не дает им покоя. Мы и из могилы должны грозить фашистским захватчикам!
Пилы у нас не было, но Димка отыскал где-то кусок липы и, орудуя топором и ножом, ловко выстрогал из нее пятиконечную звезду. У кого-то в кармане нашелся гвоздь, и Димка прибил звездочку на крест.
Поляки разбрелись по кладбищу. Я шел за Сигизмундом. Он ходил от креста к кресту и кратко объяснял мне, почему умер тот или другой поляк. Я узнал, что ни один пленный не умер собственной смертью. Под крестами лежали расстрелянные гестаповскими палачами, самоубийцы, не выдержавшие неволи у Фогелей, насмерть засеченные плетью баронессы или Камелькранца…