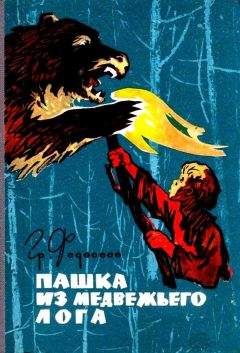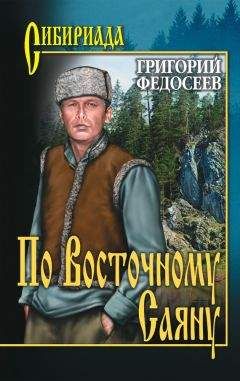Из тьмы обозначилась стоянка. На огне бушует чайник, гремя крышкой.
— Чего задержались?.. — со вздохом облегчения встречает нас Гурьяныч. — Думал, не пойти ли помочь донести уток, да услышал шаги.
А сам ощупывает меня любопытным взглядом, и на его лице вдруг появляется обидное разочарование. Но вот он видит за Пашкиной спиной гуся, радостно поднимает брови.
— Вот это да!..
Пашка не торопясь сбрасывает на освещенную костром землю добычу, отступает на два шага и, подбоченившись, ждет окончательной оценки.
— Скрадом? — спрашивает его обрадованный Гурьяныч.
— Влет! Будь второй ствол, еще бы сбил одного. Да, совсем забыл… — Он как бы между прочим запускает за пазуху руку, вытаскивает крупного шилохвоста и бросает его к гусю.
— Тоже влет?
Пашка не отвечает — достает из кармана гоголя.
— Маловато, дедушка, стало утчонки, видать, и правда извелась, — серьезно, как взрослый, рассуждает парнишка.
А я стою с чирком в левой руке и не знаю, что с ним делать. Бросить в общую кучу — Пашка не замедлит что-нибудь сострить…
— Вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Сейчас ужинать будем, а уток сварим утром, — спохватывается Гурьяныч.
— Да, да, давайте ужинать. — И, направляясь к шалашу, я незаметно роняю своего чирка в Пашкину кучу.
Старик укрепляет на тагане котелок с каким-то варевом, сильно пахнущим перцем и чесноком, пододвигает к огню чайник и только теперь поднимает тяжелого гуся.
— Жирен! Поросенок, чистый поросенок!
— Это что! Дядя убил пожирнее, да Жулик съел, — перебивает его Пашка.
— И вы гуся убили?! — удивляется Гурьяныч и строго спрашивает у внука: — Что же ты смотрел?!
— Самому плыть боязно, ноги сведет.
— Так ты Жулика послал? Пашка молчит.
— А где он?
— На Горловом, гуся доедает. — Эка беда, како добро стравили собаке! — Старик
долго не может успокоиться.
Пашка — именинник. Еще не было у него такого длинного, такого утомительного и счастливого дня. Он усаживается между толстых корней ели и оттуда молча следит за всем, что творится на таборе. Но я замечаю, что-то беспокоит его, каким-то виноватым взглядом парнишка следит за Гурьянычем.
— Чего присмирел, намаялся? — спрашивает тот.
— Дедушка, — голос Пашки дрожит, — я нечаянно уточку убил… — И он, поднявшись, протягивает старику серый комочек.
— Как эта — нечаянно?.. — строго спрашивает Гурьяныч. — Тебе говорено: стрелять только селезней. Ежели не можешь, неча ружжо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты ее убил. На что годится!.. В наказание утром на охоту не пойдешь, кашеварить будешь.
У Пашки, как от боли, морщится все лицо. Парнишка ловит мой взгляд, ждет защиты.
Я неодобрительно качаю головою и, чтобы закончить этот неприятный разговор, бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к огню. Тепло костра приятно нежит усталость.
Гурьяныч поправляет огонь, разливает по чашкам варево и отрезает всем по ломтю хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений ужин у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным.
Ярче и сильнее разгорается костер, заполняя синим светом все большее и большее пространство вокруг. А дальше, за освещенными елями, еще гуще, еще плотнее встает тьма и пеленает мраком оживший после долгой зимней спячки лес.
Холодный ветер пробежал по ельнику, тревожа темные кудри старых сосен. Пробежал и смолк. А деревья еще долго качаются над нами.
Гурьяныч прислушивается.
— Неправда, что лес шумит одинаково, — неожиданно говорит он. — У каждой породы — своя песня. К примеру сказать, сосны, они не любят тесноты, вот и шумят разноголосо. Ты только прислушайся. Налетит ураган, ну и запоют каждая в свою дудку. Жутко бывает в ветреную ночь в бору… — И старик опасливо окидывает ночной сумрак. — Другое дело ельник, ничего плохого не скажешь. В нем ветру тесно — нет разгона, ни свиста, ни воя у него не получается. Шумит ельник всегда ровно, что слаженная песня… Любо спать в нем в непогоду, за мое почтенье убаюкает.
— А у осины тоже своя песня? — спрашивает Пашка, внимательно слушая деда.
— Как же, внучек, совсем отменная. Осина больше растет на лесных кладбищах, на старых гарях. Она первая непогоду чует. И уж как залепечет листва, будто ребенок ручонками захлопает, так и знай — к ненастью. В бурю такого наплетет, такого нагородит, что и лешему не придумать, а ночью того пуще, до смерти напугает, адово дерево, будь оно проклято! Лучше не связываться с ней.
Опять ветерок растревожил сонный покой ельника. И опять долго прислушивается к шелесту крон старик. А я думал о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на благо свое, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле…
Спать устраиваемся у костра, подостлав пахучие и мягкие ветки ели. Пашку сразу не стало слышно, будто провалился в пустоту. Гурьяныч положил на огонь концы толстых бревен, высушил портянки и уже хотел забраться под однорядку, как послышался шелест сухой травы под чьими-то осторожными шагами.
Мы оба разом поворачиваемся на звук. Две яркие фары смотрят на нас из густого мрака ночи. Они приближаются вместе с шорохом, то гаснут за стволами елей, то снова упрямо надвигаются на нас. Это Жулик крадется к стоянке. Пламя огня отражается в его глазах пучком синего света.
Жулик осторожно появляется из-за толстой валежины, весь освещенный костром. Морда виноватая, спина провисла под тяжестью переполненного брюха, на губах гусиный пух, мокрый хвост висит обрубком.
— Обжабиться, лопнуть бы тебе на месте! — строго кричит старик и зло толкает ногою головешку в огонь.
Собака в испуге отскакивает за пень, уходит в темноту и оттуда долго смотрит на нас двумя синими глазами…
Тихо плывет звездная ночь над уснувшими озерами. Деревья у стоянки теперь кажутся выше и стройнее. Все больше синеют потемки лесной чащи. Я забираюсь в спальный мешок и с твердой надеждой на завтрашний день засыпаю. Но это необыкновенно короткий сон.
Внезапно просыпаюсь. Лежу с открытыми глазами. Темные вершины елей озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки теплой ночи. Тут и шепот, и вздохи, и ласковый бег ветерка. Сон не идет. Не уснуть в эту первую для меня весеннюю ночь в тайге.
Встаю, подновляю костер. Вспыхнувшее пламя отбрасывает прочь от стоянки тьму, освещает ельник.
А где же Пашка? Его постель уже занята Жуликом. Куда он мог уйти? Неужели на озеро? Нет, сейчас первый час — самое глухое время ночи. Нечего ему там делать в это время.
Шарю глазами по просветам — нигде его не видно.
— Пашка!.. — сдержанно зову парнишку.
— Тсс!.. — слышу его предупреждение.
Тихо шагаю на звук. Пашка стоит, прислонившись спиною к толстому стволу лиственницы, щедро залитой лунным светом.
Он предупреждает меня пальцем, дескать, иди осторожнее! И я безропотно подчиняюсь ему. Унимаю шаги, бесшумно переставляю ноги. Подхожу к лиственнице, прислоняюсь рядом.
Пашка не оглядывается, не слышит моего приближения — он весь поглощен каким-то ожиданием. Я внимательно осматриваю открытую марь, болото за перелеском, прислушиваюсь и ничего не могу понять: чего он ждет тут в полночь один?
У меня под ногою сучок, стоять на нем неудобно. Надо бы сдвинуть сапог вправо, но боюсь нарушить тишину.
А Пашка касается своей горячей ладонью моей руки, крепко сжимает ее.
Чуть слышный короткий звук раздается где-то близко, будто ребенок во сне чмокнул губами.
— О!.. — вскрикивает обрадованный Пашка и показывает на березку. Затем медленно поворачивает голову ко мне, смотрит удивленно в глаза. — Почка лопнула! — шепчет он.
Я улыбаюсь.
Теперь мы вдвоем, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Нужна огромная напряженность слуха, чтобы в этой ночной тишине обнаружить жизнь.
Какой-то странный звук возник и растаял: птичка ли отозвалась во сне, пискнула ли жертва в лапах хищника или кто-то народился? Слышно, как облегченно вздыхает земля, обласканная теплыми ветрами, как поднимаются первые ростки зелени под прошлогодними листьями, как дышит лес — старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой.
Где-то в стороне поет вода. Чего только она вам не нашепчет, не наобещает ночью!
И вдруг справа доносится какой-то загадочный звук, должно быть, эхо. Оно зародилось где-то у кромки тенистого перелеска. Мы смотрим туда, ждем, не обнаружится ли там еще что-нибудь. Ждем долго. Но вот что-то бесформенное появилось в ночном сумраке под елями, шагнуло вперед, и сразу обозначилась рогастая голова, широкая грудь и приземисто-длинное туловище.