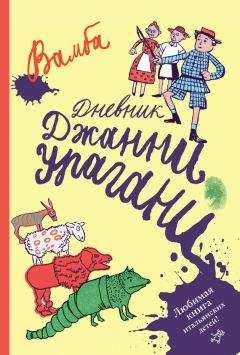Такая же сцена повторилась за завтраком, после еды Пьетро отвёл меня обратно в комнату, где я жду приезда папы, который, как водится, увидит всё это дело в самом неприглядном свете!
А между тем Пьетро сообщил мне, что Луиза и синьора Матильде со вчерашнего дня не разговаривают… И тут, конечно, тоже все скажут, что я во всём виноват: даже в том, что у моей сестры щёки чересчур красные, а у синьоры Матильде чересчур жёлтые!
Я пишу из дома Маралли.
В горле ком, но надо собраться и описать вчерашнюю сцену, чем-то напоминающую трагедии, как в театре, вот только у Д’Аннунцио[21] трагедии какие-то ненастоящие – даже мама это признаёт, хотя сёстры и утверждают, что она ничего не смыслит в театре. Ну у меня-то точно была настоящая трагедия под названием «Маленький разбойник, или Жертва свободы», ведь всё это со мной стряслось из-за того, что я подарил свободу несчастной канарейке, которую синьора Матильде держала в клетке.
Итак, вчера утром папа приехал за мной в Рим, и Коллальто описал ему все мои «выходки», кроме, разумеется, историй с маркизой Стерци и маркизом, который теперь лечится луком.
Папа выслушал до конца и сказал:
– Наше терпение лопнуло.
Больше он не проронил ни слова до самого дома. Там меня встретили мама и Ада, они бросились обнимать меня со слезами на глазах:
– Ах, Джаннино! Ох, Джаннино!
Папа оторвал меня от них, отвёл в мою комнату и произнёс очень серьёзно и спокойно такие слова:
– Я уже оформил все необходимые документы, завтра ты отправляешься в пансион.
И вышел, закрыв за собой дверь.
Позже пришёл синьор Маралли с моей сестрой Вирджинией, и они вдвоём пытались уговорить отца смягчиться, но он твердил им в ответ одно и то же:
– Видеть его не хочу! Видеть его не хочу!
Надо отдать должное адвокату Маралли: этот великодушный человек защищает слабых от жестокой несправедливости и умеет, когда надо, быть благодарным. И вот, вспомнив историю с глазом, он сказал папе:
– Надо признать, этот мальчишка чуть не лишил меня глаза, а в день моей свадьбы едва не похоронил заживо под руинами камина в гостиной. Но я никогда не забуду, что благодаря ему мы соединились с Вирджинией… К тому же он защищал меня, когда племянник Гасперо Беллуччи из его класса говорил про меня гадости… А это говорит о том, что Джанни – чуткий мальчик, не так ли, Джаннино? И за это я его люблю… Нужно смотреть глубже: взять хоть то, что он учинил в Риме, в конце концов, мотив у него был великодушный: он хотел освободить птичку…
Гениальный адвокат этот Маралли!.. Дослушав эту мощную речь до конца, я не смог больше стоять под дверью и ворвался в комнату с криком:
– Да здравствует социализм!
И с рёвом упал в объятия Вирджинии.
Папа рассмеялся, а потом сухо сказал:
– Хорошо, но раз социализм настаивает на равенстве в распределении благ, почему бы адвокату не взять тебя на время к себе?
– Почему бы и нет? – воскликнул Маралли. – Спорим, я найду способ сделать из него человека?
– Скоро ты поймёшь, какое благо тебе досталось! – сказал папа. – Впрочем, всё равно моя цель будет достигнута, так как я видеть его не хочу. Забирайте на здоровье…
Так был заключён договор: меня выселяют из родного дома к Маралли и дают мне месяц на исправление: я должен доказать, что на самом деле я не такой уж несносный, как все говорят.
* * *
В этом спокойном районе Вирджиния с мужем поселились, вернувшись из свадебного путешествия. Маралли обустроил прямо в доме свою адвокатскую контору с отдельным входом, а ещё туда можно попасть через гардеробную.
У меня своя комната, крошечная, но опрятная, окно выходит во двор, и мне в ней очень уютно.
В доме, кроме меня, сейчас гостит синьор Венанцио, дядя Маралли, он приехал несколько дней назад, поскольку здешний климат, дескать, полезнее для здоровья. Какое там здоровье: это дряхлый глухой старик со слуховым рожком, который, кашляя, бухает, как барабан.
Но говорят, он сказочно богат и с ним нужно обращаться очень почтительно.
Завтра снова в школу.
Эдмондо Де Амичис[22] был бы мной доволен, ибо сцена, разыгравшаяся сегодня утром в школе, вышибла бы слезу у любого.
Когда я вошёл в класс, меня встретили одобрительным гулом, все ребята уставились на меня.
Приятно, конечно, почувствовать себя героем, и я смотрел на своих одноклассников сверху вниз, ведь никто из них в жизни не подвергался такой опасности…
Но нет, кое-кто всё-таки попал в такую же передрягу… и вот Чеккино Беллуччи с трудом встал с места, держась руками за парту, и двинулся мне навстречу, опираясь на костыль.
Внутри у меня всё сжалось, с меня мигом слетела геройская спесь, в горле забулькало, и, побледнев как полотно, я прошептал:
– О, бедный Чеккино! Бедный Чеккино!
Ещё миг – и мы с Беллуччи обнялись, обливаясь слезами и не в силах произнести ни слова. У всех мальчишек в глазах стояли слёзы, и даже Профессор Мускул, который завёл было своё: «Всем молчать», сам замолк на полуслове, вздохнул протяжно и зарыдал.
И впрямь бедняга Чеккино!
Лечили его, лечили, но правая нога всё равно осталась короче и ему суждено хромать всю оставшуюся жизнь.
Представляешь, дорогой дневник, я был так подавлен плачевным состоянием Чеккино, что хоть я уже и думать забыл обо всей этой истории с автомобилем, но тут поневоле ужаснулся тому, с какой лёгкостью порой мы, дети, подвергаем себя опасности!
Само собой, я и не подумал спрашивать с бедного Чеккино Беллуччи десять новых перьев и красно-синий карандаш, которые он мне проспорил.
Мой зять просто молодчина. Он обращается со мной как с человеком, никогда не унижает и любит повторять:
– Джаннино в глубине души хороший мальчик, из него выйдет толк.
Только что он застал меня за дневником, полистал его, разглядывая мои рисунки, а потом сказал:
– Знаешь, у тебя большие способности к рисованию! Видно, что ты наблюдаешь и совершенствуешься… Посмотри, первые рисунки и вот эти последние – какой прогресс! Молодец Джаннино! Мы сделаем из тебя художника!
Вот такие разговоры каждому мальчишке по душе, и мне хочется показать своему зятю, как я благодарен ему за всё, что он для меня делает, и что-нибудь ему подарить, но денег-то у меня ни гроша, поэтому я думаю одолжить несколько лир у синьора Венанцио, раз он такой богач.
* * *
За обедом Маралли опять заговорил о моём дневнике.
– Ты видела его когда-нибудь? – спросил он у Вирджинии.
– Нет.
– Покажи ей, Джаннино: увидишь, Вирджиния, мы все там есть, да как похожи! Джаннино – настоящий художник!
Я обрадовался и показал рисунки сестре, но читать никому не разрешил, пусть мои мысли останутся тайной.
Невзирая на мой запрет, Вирджиния вдруг воскликнула:
– Ой, смотри: тут есть про наше венчание в церкви Святого Франческо на Горе!
Услышав это, мой зять выхватил у неё дневник и прочёл те страницы, где описано путешествие на облучке экипажа и сцена моего внезапного появления в церкви.
Прочтя это, Маралли погладил меня по голове и сказал:
– Слушай, Джаннино, обещай оказать мне одну услугу… Обещаешь?
Я пообещал.
– Спасибо, – продолжил мой зять. – Вырви, пожалуйста, из дневника эти страницы…
– Ну уж нет!
– Как? Ты же обещал!
– Прости, но зачем?
– Их надо сжечь.
– Почему?
– Потому что… Потому что так надо, детям этого не понять.
Вот вечно так! Я, конечно, поклялся, что буду слушаться, и скрепя сердце смирился с этой жертвой, но идея вырвать кусок из моего дорогого дневника показалась мне чудовищной…
Но Маралли уже выдрал страницы с описанием венчания, скомкал и бросил в камин.
Когда я увидел, как пламя осветило уголок бумаги, у меня больно сжалось сердце; но тут же радостно забилось вновь: лизнув скомканную бумагу, огонь сразу потух, комок был слишком плотный и плохо горел. Всякий раз, как огонь приближался к страницам, моё сердце замирало от страха! Но, к счастью, вскоре пламя перекинулось на другую сторону камина, и, когда никто не обращал на меня внимания, я выгреб бумажный ком и спрятал его под курточкой. Вечером в своей комнате я как следует разгладил страницы и вклеил их обратно жевательной резинкой.
Уголок одной страницы слегка обуглился, но текст и рисунок остались нетронутыми, и я счастлив, что ты, мой дорогой дневник, опять цел и невредим и хранишь все мои записи, какими бы они ни были: добрыми и злыми, гладкими и корявыми, остроумными и глупыми.
Теперь я пойду попрошу несколько лир у синьора Венанцио.
Даст или нет?
* * *
Я улучил подходящий момент, когда сестры не было дома, а Маралли сидел в своей конторе, схватил слуховой рожок и прокричал в самое ухо синьора Венанцио: