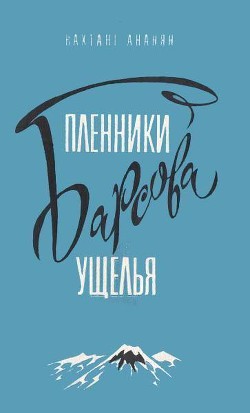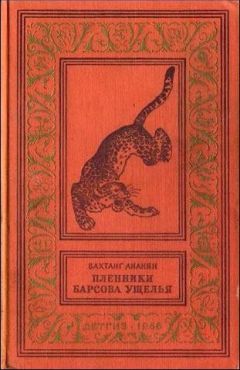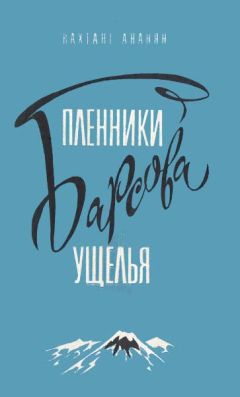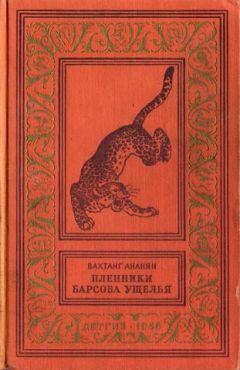— Значит, так и ставим? Не постараемся повлиять на него? — огорченно спросил Ашот.
— Повлиять? Но как? — спросил Гагик. — Дед мой, ты знаешь, очень любит прибаутки. И вот он часто говорит: «Посадили волчонка учиться грамоте. Скажи «к», а он — «коза». Скажи «я», а он — «ягненок»… Впустую с ним возиться, вот что я вам скажу.
— Нет, не впустую! — возразил Ашот. — Этот паршивец должен будет или остаться тут, или выйти отсюда человеком. Говоришь — волчонок? Значит, надо обломать ему клыки.
Саркис все еще не возвращался, и Ашот, вдохновившись, разразился, по своему обыкновению, целой лекцией.
— Такие люди, — говорил он, — не замечают своих недостатков. Многие у нас в селе пресмыкаются перед его отцом и его самого балуют — сын Паруйра! Вот и получился себялюбец. Нужно все это объяснить ему, показать, кто он и кто его отец. Даже унизить надо. Только тогда, когда поймет, что он не лучше, а во многом хуже других, можно будет помочь ему подняться, выпрямиться. Это мое предложение. В том, что мягкое обращение не поможет, я убежден. Такой человек, если с ним мягко обращаться, пожалуй, и на голову сядет.
— Речь твоя хороша, да жаль — длинновата, — насмешливо выразил свое впечатление Гагик.
— Ты что, будешь каждое мое слово взвешивать и критиковать?
— Да, ты прав, буду. Давай, Ашот, попросту поговорим, К чему ты вечно эти лекции читаешь? Жаль мне тебя.
Ашот на мгновение окаменел. Неожиданное заявление Гагика очень смутило его. Ведь сейчас речь шла о Саркисе! Вспыхнув, он искоса посмотрел на Шушик.
— А разве руководитель не должен высказывать свои мысли? — наконец спросил он. — Разве…
Гагик спокойно смотрел на него. Легкая улыбка играла на губах мальчика. Ему нравилось, когда под действием его колючих слов Ашот выходил из равновесия.
— При чем здесь я? — после короткой паузы снова заговорил Ашот. — О чем тебя спрашивают, о том ты и говори. Ну? Как же нам быть с этим… с этим…
Но Гагик так и не успел ничего сказать. Его замечание, и впрямь не имевшее непосредственного отношения к поднятому Ашотом вопросу, увело их в сторону, и до возвращения Саркиса ребята так и не сумели договориться.
В пещеру вошел Асо, за ним — Саркис с охапкой хвороста. Он нес ее легко — жирные орешки из запасов бедной белочки, как видно, подкрепили его силы.
— Вот так. Теперь ты будешь работать наравне с нами. А то — на что это похоже? «К хлебу ближе, от дела подале», как сказал бы мой дед. — На этот раз Гагик говорил необычайно серьезно. — А теперь садись-ка и слушай наши приветственные речи.
— О чем? — опасливо переводя взгляд с Гагика на Ашота, спросил Саркис.
Он, кажется, не на шутку испугался угрозы быть выброшенным из пещеры.
— О чем? О тебе, о твоем отце. Не так ли? — повернулся Гагик к Ашоту.
Это хорошо. Значит, и Гагик — сторонник его «метода». А Шушик? Ашот вопросительно посмотрел на девочку и, приняв ее молчание за знак согласия, удовлетворенно кивнул головой.
— Саркис, — начал он, — вот ты гордишься своим отцом и собой. Но тут есть одно недоразумение, и мы хотим его выяснить, чтобы ты понял, как обстоит дело в действительности. Мы хотим, чтобы ты убедился в том, например, что Асо на несколько голов выше тебя.
Саркиса эти слова взбесили.
— Асо? — сдавленным голосом переспросил он. — Ох, пусть только мы выйдем отсюда, из этого проклятого ущелья…
Он крепко сжал кулаки, но, поймав горящий взгляд Ашота, сразу сник и опустил глаза, — Да — да! Вот послушай и убедись. Асо, расскажи, пожалуйста, почему в последнее время вы так плохо живете? Ведь твоя мать — доярка на ферме, ты — пастух, а отец — знатный скотовод. Почему же у вас такая бедность, а?
Вопрос был задан неожиданно. Асо в смятении смотрел то на Ашота, то на Гагика, и во взгляде его читалось: «Не надо, не будем говорить об этом…»
— Говори, говори! Некого тебе стыдиться! Видел же ты, как он спрятал орехи? Ты бы ведь этого не сделал?
— Я? — Асо улыбнулся, показав свои белые зубы. — Я бы умер в тот же день, если бы сделал это, — сказал он с достоинством.
— Понял, чем он выше тебя? — спросил Ашот. — А ты еще считал обидным сравнивать его с собой! А теперь послушай. Тебе это полезно. Рассказывай, Асо.
Мог ли Асо не подчиниться Ашоту? И он начал свой рассказ. Смущаясь и не глядя на Саркиса, он говорил:
— Ну, что сказать? Все село это знает. Не так давно заведующий фермой позвал моего отца и велел отвести в село овец. Сказал: «Авдал, отведи, передай Паруйру, пусть зачислит и на заготпункт отдаст». Отец пошел, и я с ним. Отвели мы овец и — небо свидетель — полностью Паруйру сдали. Ровно сто семьдесят три штуки. Получили расписку и вернулись на ферму. А на другой день Паруйр прислал записку: «Почему не присылаете остальных овец — пятьдесят пять штук?»
Заведующий фермой прочитал расписку, которую принес отец. «Паруйр прав: где же остальные? Ведь я тебе сто семьдесят три головы поручил?» Отец окаменел, понял, что Паруйр обманул его и умышленно прописью, а не цифрами поставил в расписке неверное количество овец. Мы ведь не прочитали, не умеем читать по-армянски. Да и вообще, как можно не верить человеку? Ну, пошли мы — сердце не на месте — в село, к Паруйру. Думали, увидит нас, постыдится сказать неправду в лицо. А он посмотрел нам прямо в глаза и наотрез отказался. Сказал: «Написано в бумажке, что я принял сто восемнадцать, значит — столько». Отец взмолился, но ничего не вышло. Занялся делом суд. Сгубила нас эта расписка. Бумажке поварили, нам — нет.
Асо замолчал. На глазах его выступили слезы.
— Продолжай.
— Что же тут продолжать? Паруйр все подстроил, «свидетелей» нашел. Показали, что отец, мол, по дороге с фермы часть овец продал кочевникам — азербайджанцам. Отца чуть в тюрьму не посадили. Хорошо, вступился секретарь партийной организации, да и ваши отцы помогли, — Асо с выражением сердечной признательности посмотрел на Ашота и Гагика. — Ну, и решили, что делать нечего, придется возместить «недочет» этот — пятьдесят пять овец. Вот и трудимся, трудимся и никак пока не можем от этого долга избавиться. Где же совесть тут? — неожиданно повысил голос пастушок. Он весь побелел от негодования, глаза метали искры. — Но ничего, — сказал Асо, и в голосе его прозвучала угроза, — умные люди научили нас: помогли написать в какой — то там пленум. Пленум этот, говорят, не даст пастуха в обиду.
— Ну, Саркис, понял, на чьи деньги вы кормитесь? И где же твоя совесть, если ты трудом этого мальчика живешь? И в дождь, и в град, и в снежную метель Асо охраняет стадо от волков, а ты? Знаешь ли ты, что он живет в сырой хижине? А на какие деньги построен ваш красивый дом?
Так говорил Ашот. Его большие черные глаза горели таким негодованием, таким гневом, что будь на месте Саркиса камень, и тот бы расплавился.
А Гагик смотрел на побледневшее от возбуждения и возмущения лицо товарища и думал: «Вот на этот раз, Ашот-джан, ты правильные речи говоришь. Бей его пудовыми словами, бей!»
Саркис сжался под этим внезапным натиском и слушал молча, опустив голову. Лицо его оставалось в тени, и трудно было понять, какое впечатление производят на него «пудовые слова» Ашота.
Ашот умолк, но губы его шевелились, словно он еще что — то хотел сказать Однако, махнув рукой, мальчик обратился к Шушик:
— А теперь ты скажи.
— Я ничего не знаю… я… мне… — забормотала девочка.
— Чего ты не знаешь? Расскажи, вместо кого пошел воевать твой отец.
Девочку точно громом удалило. Она побелела, потом сразу покраснела и, решившись, сказали резко и прямо:
— Вместо его отца. Мать моя и теперь плачет, когда об этом рассказывает. Отец мой рис для колхоза выращивал. С первых же дней, с посадки, он до самого жнивья из воды не вылезал. Вот и схватил острый ревматизм. В теплые дни мог работать, а как зима начиналась, в постель ложился. Какой из него солдат? Его и освободили от военной службы. А потом вдруг зовут в комиссариат. Не знаю я подробностей, меня ведь и на свете еще не было, знаю только, что председатель Арут и вот его отец какой — то подлог устроили. Паруйра освободили, а отца моего признали годным. Ушел он на фронт и… не вернулся больше.