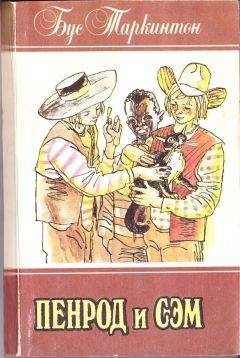– Учись относиться к конфорту других, – величественно проговорил он и с видом оскорбленной добродетели удалился.
Он перебрался на солнечную сторону двора и, устроившись вместе с верным Герцогом на прогретой солнцем траве, продолжил песню:
Она прекрасней всех цветов, ее милее нет,
Лишь только ландышей букет сберу чрез много лет,
Иль прогуляюсь при луне вечернею порой,
Как тотчас образ дамы той смущает мой покой.
Воспоминания о ней преследуют меня,
Кипят во мне любовь и страсть, они сильней огня-я-я!
– Пен-род!
Это уже кричал мистер Скофилд. Он стоял у окна библиотеки с книгой в руках.
– Прекрати! – сказал он тоном, не допускающим возражений. – Неужели нельзя, хоть раз в жизни остаться дома с головной болью, чтобы… – он осекся, подбирая слова. – Уж лучше бы я пошел на службу, чем слушать это вытье!
Он отошел от окна, призывая в свидетели всех святых, что в жизни еще не слышал такого противного воя.
Его слова очень уязвили Пенрода. Он удалился в дом. Вскоре до сидящих на веранде донесся его голос. Он беседовал с матерью.
– Ну и что из того? – говорил он. – Сэм Уильямс мне сказал, что его мать сказала, что если Боб когда-нибудь женится на Маргарет, то они…
Тут Маргарет почла за лучшее с шумом захлопнуть дверь, ведущую в дом. Но Пенрод тут же открыл ее.
– Ты что, хочешь, чтобы всех в доме хватил солнечный удар? – возмущенно сказал он. – Оставить всех без воздуха в такой зной!
После этого Пенрод уселся на пороге. Устроился он основательно, и было ясно, что он собирается пробыть тут долго. Но Роберт Уильямс тоже не собирался сдаваться. Будучи старшим братом мистера Сэмюела Уильямса, он обладал кое-каким опытом общения с подростками. Правда, в кармане у него лежал всего лишь доллар. Но он не постоял за ценой и решительно протянул этот доллар Пенроду.
Почувствовав себя по меньшей мере Рокфеллером, Пенрод тут же встал и направился навстречу удаче. Счастье и благодарность переполняли его душу. Это требовало немедленного выхода, и Пенрод снова затянул песню:
В ее глазах – нежнейший блеск, и я сказал бы ей,
Что нет на сеете никого ни чище, ни милей.
Я б ублажал ее всю жизнь, и выстроил бы дом
На берегу родной реки, и мы бы жили в нем!
Справедливости ради надо признать: песенная лихорадка порой охватывает даже вполне взрослых и солидных людей. Даже тот, кто справил золотую свадьбу или перешагнул порог девяностолетия, никак не застрахован от музыкального безумия. В один прекрасный день он может вдруг разразиться громкой песней.
Горе было тем, мимо чьих домов лежал путь Пенрода. От его пения страдали инвалиды, впадали в прострацию люди умственного труда, и проклинали час, в который наш герой родился на свет, несчастные, намеревавшиеся передохнуть после тяжелой работы. Но Пенрод ничего не замечал вокруг. Он шагал с гордо поднятой головой и, воздев глаза к июньскому небу, самозабвенно пел:
Скромная могилка заросла травою,
Уж не светит солнце больше над тобою.
Если бы он мог хоть на минуту представить, какой леденящей ненавистью переполняются души людей, которые слышат его пение! Но он ничего этого не знал. Он целиком и полностью был захвачен целью, к которой и шагал сейчас, никуда не сворачивая. Лавка старьевщика – вот куда направлял он свои стопы. Там лежало подлинное сокровище, которого давно вожделело все его существо. Этот предмет относился к тому роду вещей, которые совсем развалились и обла дают лишь архивной ценностью, ибо починить их уже невозможно. Тем не менее, старый аккордеон, давно облюбованный Пенродом, еще был способен издавать кое-какие звуки. Отрывистые, хриплые и пронзительные, они казались нашему юному исполнителю чудесными. Особенно пленяла его одна клавиша. Стоило нажать ее, как раздавалось нечто, напоминающее мычание теленка.
И вот мечта Пенрода осуществилась. Инструмент был выкуплен за двадцать два цента. Об этой цене они со старьевщиком уже давно условились, и тот терпеливо ожидал, когда финансовые дела Пенрода пойдут в гору. Конечно, когда сделка состоялась, старый скупердяй не преминул заявить, что терпит убыток. Но таковы уж нравы старьевщиков: подберут вещь на свалке, а потом еще набивают цену.
Пенрод обнаружил на инструменте выцветший зеленый шнурок и повесил его на плечо. Потом он зашагал по направлению к дому. Теперь он шел другой дорогой, и выбор был далеко не случаен. Он хотел покрасоваться с этой замечательной вещью перед Марджори Джонс. Теперь он заблаговременно извещал о своем приближении жителей других кварталов, и звуки, которые он распространял вокруг себя, без сомнения, показались бы чрезвычайно дерзкими даже самому смелому музыканту-новатору. Из всех живых существ, находящихся подле Пенрода, пожалуй, лучше всего было Герцогу (к старости он стал несколько глуховат, благодаря чему мог теперь совершенно спокойно следовать за хозяином).
Пенрод завернул за угол и, наконец, достиг дома, который ему был милее всех остальных домов на свете. Он тут же увидел перед собой Марджори. Радость его была так велика, что он даже перестал играть.
Марджори шла с непокрытой головой, и солнце сияло в ее рыжих локонах, за руку она держала четырехлетнего братишку Митчелла. На ней было розовое платье, которое так хорошо помнил Пенрод, и широкий лаковый пояс, сиявший, как зеркало. Ах, как она была хороша! И каким счастливчиком показался Пенроду ее младший брат, – ведь он мог сколько угодно держаться за эту очаровательную руку, которую так красили мелкие веснушки!
– Привет, Марджори, – сказал Пенрод как можно небрежнее.
– Привет, – ответила Марджори, и Пенрод уловил в ее голосе неожиданную сердечность.
Она наклонилась к брату и, по-матерински нежно, подражая его речи, шепотом попросила:
– Ну, Митчи-Митч, скажи зентамену пивет.
Она повернула его лицом к Пенроду, но заискивания ее ни к чему не привели.
– Не скажу! – твердо произнес Митчи-Митч и, видимо, решив подтвердить слова делом, пнул джентльмена в лодыжку.
Чувства Пенрода подверглись серьезному испытанию, и ему пришлось потратить немало драгоценных минут, чтобы справиться с крепнущей ненавистью к Митчу. Окажись поблизости мистер Роберт Уильямс, он живо провозгласил бы, что все младшие братья возлюбленных подобны стихийному бедствию. Но его тут не было, да и вообще, видимо, каждому приходится решать этот вопрос в одиночку.
– Ай-ай-ай! – воскликнула Марджори и с показной строгостью, в которой было больше от ласки, нежели от наказания, схватила Митчи-Митча за руку. – А Морис Леви уехал с мамой в Атлантик-Сити, – добавила она, оттягивая братца подальше от Пенрода.
– Подумаешь! – ответил Пенрод, напряженно наблюдая за Митчи-Митчем. – Многие летом ездят в места получше. В Чикаго или еще куда-нибудь…
Это было вопиющей неблагодарностью. Ну, можно ли было умалять достоинства Атлантик-Сити, когда именно благодаря этому курорту мисс Джонс встретила его сейчас столь приветливо! Конечно и аккордеон тут сыграл свою роль. Может быть, даже и пакетик, выглядывавший из его кармана оказал какое-то влияние на прекрасную Марджори. И все же совсем не следовало сбрасывать со счетов Атлантик-Сити.
Что касается пакетика, то он был начинен карамелью. Пенрод приобрел его по пути в аптеке, а чувства его к Марджори были столь глубоки, что он до сих пор умудрился не вскрыть лакомство. А, между тем, это был пятнадцатицентовый пакетик, полный самых разнообразных чудес. Там были лимонные и коричные леденцы, зубодробительные карамельки, лакричные палочки и затвердевшие от времени шоколадки с начинкой.
Он протянул пакетик Марджори.
– Бери, сколько хочешь, – сказал он, – и это была отчаянная щедрость.
– Пенрод Скофилд! – воскликнула Марджори. – Я и не думала, что ты такой хороший мальчик!
И тут Пенрод понял, что сердце ее оттаяло.
– Бери, бери, – повторил он небрежно, – у меня сегодня много денег.
– Откуда?
– Достал, – неопределенно ответил он и, соблюдая возможную осторожность, протянул зубодробительную карамельку Митчи-Митчу.
Тот налетел на нее, как хищник, и тут же засунул в рот.
– Ты умеешь играть на нем? – не очень внятно спросила Марджори, ибо рот у нее был набит конфетами.
– Хочешь сыграю?
– Она кивнула, и глаза ее радостно заблестели.
– Собственно, для этого он и пришел. Откинув голову и мечтательно закатив глаза, он с видом заправского музыканта растянул аккордеон и приготовился извлечь замечательное телячье мычание, в котором, главным образом, и заключалось очарование инструмента. Но именно в этот момент гораздо более громкий вой напрочь заглушил изумительный звук.
– Иа-а-а! Йа-а-а! Иа-а-а! – вопил Митчи хором с аккордеоном.
Но, видимо, посчитав, что выражает протест против аккордеона недостаточно громко, он пошире открыл рот и тут же выронил карамельку. Конфета упала в пыль. Митчи с ревом нагнулся, чтобы поднять ее, но Марджори опередила его. Она наступила на конфету ногой. Пенрод тут же протянул Митчи-Митчу другую карамельку такого же качества, но тот со злобой вышиб ее у него из рук. Он хотел свою конфету. Он уже испробовал ее на вкус и считал, что лучше быть не может.