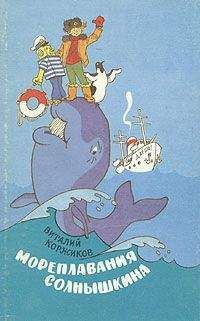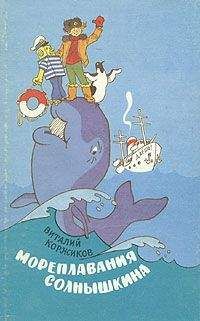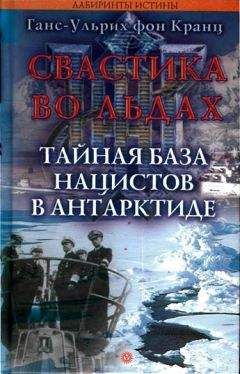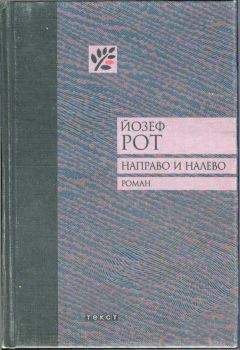— Да! — Робинзон привычным движением взялся за кирку.
А Солнышкин бросился наверх привязывать подвеску.
«Даёшь!» взбегал с волны на волну. Капитан Моряков быстро ходил по рубке. Антарктическая прохлада бодрила его. Среди летящего снега ему то и дело виделись мужественные лица членов его экипажа, и капитану хотелось скорей взяться за краски. Именно таким — среди брызг и штормового ветра — Моряков мечтал написать портрет старого Робинзона.
Он спустился в каюту, взял палитру, кисть и, напевая «Что это, братцы, за пароход?», направился к стоящему у иллюминатора холсту. Внезапно капитан пошатнулся. В иллюминаторе стоял великолепный портрет Робинзона! Моряков тряхнул головой, но видение не пропадало. Прекрасный портрет, выполненный рукой настоящего художника! Старик сидел среди красивых ледяных наплывов и работал киркой. В робе, с развевающимися от ветра волосами и брызгами на лице.
— Неужели я его уже написал? — изумился капитан. — Интересно! — нахмурился он. — Вот только нос старику я, кажется, немного испортил!
Моряков поднял кисть, взглянул исподлобья на портрет и посадил на переносицу старику алый мазок.
Портрет вдруг мигнул и улыбнулся.
Да, свежий воздух и вдохновение творили сегодня с Моряковым что-то невероятное! Он нагнулся к портрету поближе, и в это время старик вытер только что посаженное пятно. Портрет спорил с художником! И тут в иллюминатор просунулась настоящая живая рука.
Моряков мягко упал в кресло. Минуту он посидел молча, а потом воскликнул: «Боже мой!» — и засмеялся. Но в следующую минуту он энергично поднялся:
— Мирон Иваныч, не двигайтесь! Не двигайтесь! Это будет моё лучшее произведение!
Внизу, приплясывая на снежном ветру, Солнышкин и Бурун вздыхали:
— Интересно, что он так долго там делает?
Робинзон скалывал лёд, а Моряков писал самое лучшее в своей жизни полотно.
Сейчас оно висит в Океанском морском музее напротив входа.
И когда бывалые моряки заходят туда, они вдруг останавливаются и говорят:
— Здравствуйте, Мирон Иваныч! — И почти все удивляются, потому что не слышат ответа: до того, как уйти в плавание, старый Робинзон всегда был очень вежливым.
Пионерчиков был в восторге от Перчикова. Отказаться от целого острова, проявить себя таким дипломатом, получить титул вождя племени и ни капельки не задрать нос! Это было по-пионерски. Это было по-товарищески. Пионерчиков просто влюбился в Перчикова и готов был делиться с ним любой радостью и печалью.
Однажды вечером, когда Солнышкин и Перчиков под вой ветра перебирали кораллы, раскрасневшийся юный штурман вбежал к ним в каюту в сверкающей от снега шубе и крикнул:
— Перчиков, я, кажется, напишу стихи!
— Это здорово, — сказал Перчиков. — Но о чем?
— Не о чём, а о ком, — возразил Солнышкин, и лежавший рядом Верный завилял хвостом.
— О ком? — вдруг покраснев, спросил Пионерчиков.
— Знаем, — усмехнулся Солнышкин. И пёс весело взвизгнул: он-то знал, кто угощал его каждый день вкусными косточками. Да и вся команда видела, как старательно помогает Пионерчиков буфетчице Марине наводить порядок и убирать посуду, но все только по-доброму улыбались: вот это по-пионерски!
И лишь артельщик из-за угла как-то противно произносил своё любимое «хе-хе».
— Ну и хорошо, что знаете, — вспыхнул Пионерчиков, — а я всё равно напишу стихи.
— Правильно, — сказал Перчиков.
— Я просто не знаю, что со мной случилось. — Глаза у Пионерчикова загорелись. — Но я бы для неё обошёл все океаны, я бы для неё показал такие фигуры на коньках!
— Среди айсбергов, — заметил Солнышкин.
— И среди айсбергов! Жаль, только, нет коньков!
— И айсберга тоже! — ухмыльнулся Солнышкин.
Но сказал он это явно преждевременно.
Сверху раздался свисток вперёдсмотрящего, и сумрак озарился таким светом, будто в небе повис светляк в тысячу ватт. В каюте повеяло внезапным холодом.
Прямо перед «Даёшь!» возник откуда-то громадный айсберг.
— Осторожно! — кричал Моряков.
Все выбежали на палубу. Солнышкин схватил копьё Перчикова и вонзил в льдину. Моряков уже упирался в неё руками и толкал вперёд. И только Пионерчиков, увидев у борта Марину, остановился, готовясь заслонить её от опасности, но наткнулся на сердитый взгляд и так налёг на льдину, будто в нём сидели сразу три Пионерчикова.
Над пароходом навис самый настоящий антарктический айсберг.
Он тихо покачивался в воде, словно рассматривая, кто это ему повстречался.
Бока его были так отполированы, что могли заменить зеркало. Солнышкин видел, как в его копьё с той стороны упирается копьём такой же Солнышкин. Морякова толкает такой же Моряков, а Федькина — Федькин.
И вот в этот-то момент в глубине зеркала Солнышкин заметил стоящих рядом Пионерчикова и Марину…
Он ещё сильней налёг на копьё.
Наконец айсберг остался позади. Тогда Солнышкин, посмотрев на Пионерчикова, сказал:
— Всё ещё танцуете на айсберге? Жених и невеста!
Пионерчикову сразу расхотелось писать стихи.
— Солнышкин, Солнышкин! Вот этого я уже не ожидал, — закачал головой Моряков.
«ЛАСТОЧКИ»? «СНЕГУРКИ»? «НОЖИ»?
Солнышкин сбросил сапоги и, грустно шмыгая носом, пошёл греться поближе к машинному отделению, от которого тянуло теплом, как от хорошей домашней печки. Он прислонился спиной к горячей переборке и задумался.
Ту-ту-ту… — постукивала машина. Ту-ту-ту… — постукивали у Солнышкина в голове горькие мысли. Ему хотелось пойти к Пионерчикову, извиниться и сказать что-нибудь очень хорошее. Но ведь не скажешь: «Пионерчиков, вы не жених и невеста»! Пионерчиков ещё больше обидится! Вот если бы рядом был магазин, пошёл бы, купил коньки и…
До Солнышкина донёсся длинный весёлый звук: дз-з-з… — и из токарной мастерской, как из шланга, посыпались искры. В глазах у Солнышкина тоже сверкнули искры, и он бросился в токарку. Там стоял Мишкин. Он вытачивал какой-то болт, напевая федькинскую песню: «Плавали, братцы, знаем!» Перед ним, рассыпая метеориты, вертелись наждачные колёса, работал станок, гудела паяльная лампа.
— Слушай, Мишкин, — сказал Солнышкин, — ты всё можешь выточить? — И глаза у него сверкнули, как новенькие, пахнущие маслом «снегурки».
Огромный Мишкин выключил рубильник и удивился такому вопросу.
— Пароход могу выточить! — сказал Мишкин и поправил берет. — Не веришь? — И он взял замасленными руками кусок болванки, будто именно из неё собирался сработать новенькое судно.
Но Солнышкину не нужен был пароход.
— А коньки можешь сделать? — спросил Солнышкин.
— Собираешься установить антарктический рекорд? — захохотал Мишкин.
— Не я, — сказал Солнышкин. И он поделился с машинистом своими печалями.
— Ха-ха, нашёл печаль! — рассмеялся Мишкин. — Так это же дважды два! Тебе что — «ласточки», «снегурки», «ножи»?
— Какие-нибудь, — усмехнулся Солнышкин.
— Ну ладно, сделаем коньки марки «Даёшь!», — подмигнул Мишкин и запустил станок.
Из-под резца на пол побежали горячие стружки. С их дымком незаметно улетучивались все грустные мысли Солнышкина и, как новенькие коньки, возникали бодрые, лёгкие, радостные… Всё звенело, грохотало и пело вместе с Мишкиным: «Плавали, братцы, знаем!»
— Включай наждак, — сказал Мишкин и передал Солнышкину два горячих бруска. — Затачивай.
Круги завертелись. Солнышкин приложил к ним полозья, и среди искр, как ракеты среди метеоритов, заблестели маленькие коньки необычной формы.
Скоро ликующий Солнышкин вышел из мастерской со свёртком под мышкой. Он огляделся, открыл дверь в каюту Пионерчикова и положил свёрток прямо на кровать. Потом подумал и написал на бумаге: «Тысяча рекордов!»
Солнышкин представил шумные трибуны стадиона, мерцающий лёд, на котором Пионерчиков выписывает самые фантастические фигуры, и внезапно сник. На одной из трибун он увидел Марину, улыбающуюся Пионерчикову…
«Ну что ж… Пусть улыбаются, — вздохнул он. — Людям нужно делать добро. Пусть себе улыбаются. А у меня найдутся дела поважней». И он посмотрел в иллюминатор. Скоро должна была показаться Антарктида.
ТРОПИЧЕСКИЙ ПЛЯЖ ДОКТОРА ЧЕЛКАШКИНА
Обида, нанесённая Солнышкиным, не погасила энергии Пионерчикова. Наоборот, ему ещё больше захотелось сделать что-нибудь хорошее, ну хотя бы организовать весёлый концерт самодеятельности, который немного развлёк бы загрустивший экипаж. На другом судне для этого потребовался бы целый год. Но юный штурман плавал на знаменитом пароходе «Даёшь!».
Через полчаса красный уголок был набит зрителями и артистами, как троянский конь греками, и каждому не терпелось броситься на сцену. Только Бурун и Робинзон оставались вдвоём возле подшкиперской: Робинзон вязал морские узлы и порой поглядывал в трубу на проплывающие вдали льдины, а Бурун готовился к цирковым выступлениям.