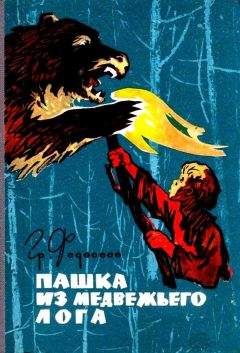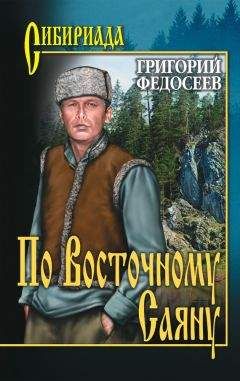Потом он молчит. Заронил искорку в душу деда и выжидает, когда тот поразмыслит, но через полминуты переходит в наступление.
— Дедушка!..
Тот поднимает глаза, смотрит на Пашку почти с укором: сердце-то не камень!
— Ну, что еще?
Пашка, видимо, по голосу догадывается, что старик начинает колебаться.
— Пойдемте наверх, посмотрим баранов, может, одного добудем; я ребятам в школе обещал привезти шкуру зверя для чучела. Пойдемте, а?!
— Ты с ума сошел, кака охота весной, чему тебя учу?
Пашка делает минутную передышку. Все пьем чай.
— Потом тебе трудно будет ходить по горам и не покажешь мне баранов, — начинает снова Пашка.
Гурьяныч отворачивается.
— Сам же говоришь, что до Кедрова ключа теперь — рукою подать, чем там дожидаться — лучше сходить наверх. И подъем не ахти какой.
— Пристал, как банный лист! — Старик поднимается, поправляет огонь.
Пашка ловит мой взгляд, кивает головою, взглядом просит поддержать его. По правде говоря, мне его идея понравилась. Не плохо полюбоваться снежными баранами на вершинах гор. Как тут не поддержать?!
— Гурьяныч! — обращаюсь я к старику. — Может, Пашка и прав, если действительно у нас есть время — давайте сходим наверх. Пусть посмотрит на баранов… Может, вы устали, тогда отдохните, мы вдвоем…
Гурьяныч стоит к нам спиною, молчит. Затем начинает складывать вьюк, накрывает брезентом, на края кладет камни, чтобы ветром его не сдуло.
Пашка торжествующе вскакивает, бежит к дедушке, обнимает, жмется к нему, а глаза хитрые-хитрые.
Через десять минут мы покинули стоянку. Нас провожает уставшими глазами Кудряшка. Пашка машет ей рукою, кричит:
— Вернемся с добычей!..
— Чего орешь, каки тут бараны будут после крика, — сердится Гурьяныч. — И помни, вернемся — поспешать будем без отдыха.
Пашка стихает. Сейчас он послушный, все готов исполнить, лишь бы идти.
Поднимаемся по заповедному гребню. До скалистых вершин не так уж далеко. С нами на вершину бегут лиственницы. Они цепляются обнаженными корнями за камни, лезут по скалам, нависают над чудовищными пропастями. Но выше лес редеет, выклинивается, уступая место более приспособленному к суровому климату высокогорья кедровому стланцу.
— А знаешь ли ты, Пашка, что раньше, давно-давно, здесь, на хребте не было ни леса, ни травы, ни даже лишайников, только камень? Лес поднимался сюда очень долго… Много тысяч лет, а то и миллион.
— Миллион лет? Так долго?! — удивляется парнишка.
— Когда сформировались эти горы, тут был только камень, и растительность постепенно поднималась снизу. Там она появилась раньше.
— Миллион лет!.. — Это поразило Пашку.
— И еще долго будет подниматься до верха. Там, видишь, всюду россыпи, нет почвы, да и россыпи все время движутся, еще идет процесс разрушения.
Мы взбираемся к верхней зоне леса. Тут он растет мелкий, жалкий, чудом удерживаясь на шаткой каменной подстилке или припадая стволами к скалам.
— Пашка!.. — кричит сзади Гурьяныч. — Айда сюда! Мы спускаемся к нему.
— Глянь, как ее изувечила стужа! Не дерево, а урод. — Старик показывает на лиственницу, комелистую, всю простреленную дырами и обхватившую цепкими корнями камень, на котором растет. — Трудно ей тут, вишь, как сгорбилась, почти без веток, а живет. С природы, внучек, бери пример, как надо бороться за жизнь, трудностям у этих деревьев учись. — Он тычет посохом в дерево.
Лес остается позади, но еще изредка попадаются уродливые деревца, совсем карликовые, распластанные по россыпи. Они прячутся за камни от смертоносного холода, не смея выглянуть, не зная солнца, точно тайком пробираясь в стан врагов, чтобы отвоевать у них полоску земли для своего потомства. На них лежит неизгладимый след извечной борьбы жизни и смерти. Когда смотришь на эти лиственницы, не поднявшиеся и на сантиметр выше россыпи, состарившиеся над камнями, тебя захватывает чувство восторга, — какая жизнестойкость у этих изувеченных борьбою деревцев, поселившихся на открытых курумах.
Остается метров сто до края цирка. Дальше будет легче. Гурьянычу все труднее идти. Он дышит тяжело, все чаще присаживается отдохнуть. А ведь еще неизвестно, как скоро мы найдем баранов в этих скалистых щелях гор.
Пашка все время рвется вперед, но я сдерживаю его, заставляю идти следом за мною.
На изломе нас поджидает единственная лиственница. Непонятно, какие силы удерживают ее на кособоком камне? Она еще молодая, но ее ствол голый, весь в трещинах. Нутро дупляное. И только на солнечной стороне тянется узкой полоской живая кора от корней до вершины, питающей единственную веточку, обращенную кверху, как бы зовущую на штурм россыпей. В этой позе она кажется богатырем.
Я подбираюсь к последним уступам. Прошу Пашку подождать, пока я взберусь наверх, чтобы его не сбил случайно сорвавшийся камень. Берусь руками за выступ, нащупываю повыше ногами опору, приподнимаюсь. Схожу по карнизу влево. Снова карабкаюсь, пока не выбираюсь на крайний уступ.
Сажусь отдохнуть.
За мною поднимается Пашка. Он торопится, прыгает с карниза на карниз как баран. Вот вижу, он у лиственницы, наклонившейся к обрыву, левою рукой ловит за корень, а правой машинально хватается за единственную веточку. Слышу треск. Веточка надламывается, повисает на коре, а Пашка, не удержавшись, срывается, не успевая схватиться за выступ.
Я помогаю ему подняться наверх.
Сидим, ждем старика. Он долго и трудно взбирается по уступам. Присаживается на камне рядом с лиственницей, начинает развязывать ремешок на ичиге. — Зачем разуваетесь, ногу ушибли? — спрашиваю я.
Гурьяныч не отвечает.
Поднимаюсь, подхожу к нему.
Его лицо вдруг помрачнело. Он отрезает длинный конец ремешка, встает, подходит к лиственнице. Мы молча наблюдаем за ним. Старик прикладывает к стволу надломленную веточку, как она была раньше, и начинает прибинтовывать ее. Меня это буквально уничтожает. Пашка виновато краснеет. Он, кажется, догадывается, что погубил единственное деревцо, поднявшееся так высоко к границам мертвых курумов, чтобы осеменить каменные склоны, зародить на них жизнь.
Старик не торопясь продолжает обматывать ремешком рану. Тугим узлом связал концы. Он, конечно, понимает, что ветка не срастется и что дерево погибло, но он делает это потому, что не находит слов выразить свой гнев.
Гурьяныч подходит к нам, присаживается рядом. Ни упрека, ни единого слова, и это молчание было для Пашки тяжелым испытанием.
— Я же нечаянно, дедушка, — оправдывается Пашка, а сам не может оторвать от дедушки повлажневших глаз.
Я тоже смотрю на старика. Даже теперь, в гневе, его лицо освещено изнутри какой-то удивительной добротою, присущей немногим людям. Он все больше поражает меня своим мудрым отношением к природе, своею удивительной слитностью с нею. На всю жизнь осталась в памяти эта лиственница над скалистым обрывом, с единственной прибинтованной ремешком веточкой, как символ заботливого отношения человека к природе.
Старик не может долго гневаться. Пашка по каким-то, ему одному известным признакам догадывается, что у старика размякло сердце, поднимается, идет молча рядом с ним, взяв его за левую руку. И мне вдруг становится легко видеть их идущими рядом.
На седловине находим звериную тропу. Свежие следы только что пробежавших по ней снежных баранов обнадеживают нас. Мы сворачиваем вправо, преодолеваем еще небольшой подъем, входим узким коридором в обширный цирк.
Он как-то весь сразу открывается взору. Какую колоссальную работу надо было некогда проделать леднику, чтобы выпахать в граните такую глубину. Цирк с трех сторон окантовывают неприветливые стены скал, врезающиеся в мощный отрог. Они стары, со следами былых разрушений. На дно цирка никогда не заглядывает солнце. Тут вечный покой, разве камень сорвется с утеса, или ворон, древний житель этих гор, прокричит на закате. В затхлом, никогда не продуваемом воздухе запах заплесневевших камней.
Ветерок проносится вперед и вдруг грохот россыпи потрясает тишину. Пашка вырывается вперед, но, точно завороженный, останавливается. Видим, как на белую полоску снежника у озерка выскакивают два крупных барана-рогача, видимо только что прибежавших в седловину. Они пересекают снежник и начинают подниматься по скале. Животные скачут с уступа на уступ, липнут копытцами к шероховатой поверхности стен, мелькают над пропастями, уходят ввысь и там задерживаются, выкроившись резными силуэтами на фоне голубого неба.
— Ушли! — чуть не со слезами бросает им вслед Пашка.
Мы долго стоим. Парнишка все еще не может оторвать взгляда от лохматого края скалы, за которой скрылись крутороги. Они здесь, на фоне мертвых каменных громад — цари.
Сворачиваем с седловины. Поднимаемся по пологому гребню, усеянному обломками камней. Справа все тот же цирк, на дне его теперь мы видим цепочку мелких озер, соединенных между собой ручейками и окруженных вечнозелеными рододендронами. Слева же взору открывается весь хребет в провалах, нагой и огромный. Нас окружают толпы вершин, дерзко поднявшихся к небу, молчаливых и угрюмых. Здесь нет молодых камней, нет новых громад — все вымученное, старое, бесплодное. И трудно поверить, что на этих давно умерших вершинах обитают чудесные прыгуны — снежные бараны.