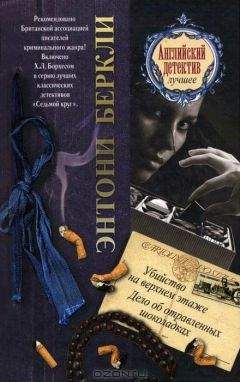— Слушай, а ты хотел, чтобы тебя, да? Председателем, да? Слушай, только скажи мне по правде, а тебе какая выгода? А?
Не зря старался Генкин сосед, задавая свои вопросы. Вскоре его стали называть Саша-хитрый. А потом Петя Павлов получил прозвание Петропавловский, и ребята из других отрядов были уверены, что Петропавловский — его настоящая фамилия.
За несколько дней отличился чем-нибудь чуть ли не каждый в отряде. А отряд, в котором есть особенные люди — уже не просто скопление народа, по списку, от «А» до «Я», — нет, это уже настоящий отряд — совместное соображение и совместная зоркость, превосходящие ум и наблюдательность каждого в отдельности. Вот мы идём по этой дороге, — а кто такие вы, идущие нам навстречу? Может, вы просто толпа, и все одинаковые, как шарики из подшипника? А если не так — подавайте сюда скорее ваших чудаков и удальцов, а мы выставим своих, и ещё посмотрим — кто кого перечудачит и кто кого перехрабрит!
Он всё не кончался, этот первый, самый долгий по впечатлениям день. Была ещё в предзакатный час короткая торопливая прогулка к морю.
Так случалось в Ключевском ежегодно во все три смены: хотя торжественное знакомство с морем происходило утром второго дня, всё-таки в день прибытия каждый отряд выбегал на минуту к полосе прибоя — пробовали рукой тёмную воду, смотрели на низкое, огромное солнце — и с тайным разочарованием убегали ужинать.
Чудо совершалось наутро, в десятом часу. На берегу ласкал босые пятки прогретый, ослепительно белый галечник. А волны до горизонта были глубокого сине-зелёного тона; зато ближняя вода, пронизанная танцующими светлыми бликами, казалась прозрачной, как воздух. Можно было сосчитать прожилки на каждом камне, чешуйки на каждой водоросли.
И кто-то уже вступал зачарованно в эту воду, по круто уходящему галечному дну, с намерением поднять рукой вон тот, совсем близкий камешек с оранжевой прожилкой. А глубина над камешком, на самом-то деле, была два с половиной метра, и «зачарованного» еле успевали схватить под мышки и вытащить на мелкое место.
Никто во втором отряде особенно не торопился в палату — но стоило только войти, включить свет, скинуть одежонку — и глубочайший сон навалился на каждого, кто успел прикоснуться к подушке.
Вскоре Шурка Горюнов оказался единственным неспящим человеком в палате.
…Были в городской жизни Шурки кое-какие обстоятельства, которые приучили его засыпать самым последним, когда в комнате, наконец, становится по-настоящему тихо.
Не очень благополучно складывалось всё у него дома. После того, как с его помощью устраивались на ночь двухгодовалый Васька и пятилетняя Танюшка, ему приходилось тратить ещё много нервов, чтобы их не разбудили, дали им по-человечески выспаться.
И сейчас, хотя Шурка знал, что целый месяц будет свободен от своей ежевечерней заботы, хотя устал он ничуть не меньше других ребят — всё же не удавалось ему уснуть сразу.
Брат и сестра доверяли Шурке как никому другому. К нему первому бежали со своими открытьями и волненьями. Даже если что-нибудь болело, Шурке докладывали прежде всего, уверенные, что он моментально определит, как тут быть. И какой рёв поднимался, когда Шурка убегал поиграть во двор или отправлялся к товарищу готовить уроки!
Сейчас и Танька и Васька были за городом. Так повезло, что детсадская дача оказалась в одном посёлке с ясельной, дом от дома — полкилометра.
Шурка уже сегодня послал открытку с точным здешним адресом. Велел сестре немедленно написать, как им там живётся.
Буквы Танюшка знала, так что с письмом она должна была справиться, лишь бы только воспитательница написала на конверте адрес.
…И ещё одна причина заставляла Шурку таращить глаза. Сине-фиолетовым светом мерцала дежурная лампочка.
В душе он был страстный путешественник, а вот в жизни почти никуда не ездил.
И только два человека знали о его страсти: старичок школьный библиотекарь, у которого Шурка всегда спрашивал журнал «Вокруг света», и, конечно же, закадычный друг и одноклассник Лёша Кузьмин.
С Лёшей-то они не сидели сложа руки. С Лёшей были разведаны и освоены два прекраснейших далёких маршрута — и притом совершенно доступных. Два трамвайных кольца! И всех-то дел — сесть в вагон на остановке у самого дома и ехать безвылазно тридцать пять или сорок минут. Главное — не упускать тех редких случаев, когда можно вдвоём, не вызывая дома особых подозрений, исчезнуть на два-три часа.
Первый путь лежал к одному из городских парков, а точнее — к его дикой половине. Деревья и кусты росли там группами, как будто собравшись для беседы, поляны переходили одна в другую и выводили к речушке, огибавшей весь этот заповедник. А ещё там был маленький пруд с высокими берегами, кусок заброшенной мощёной дороги из никуда в никуда и разрушенный мост посреди одной из полян, когда-то соединявший два одинаковых бугра. От ручья, протекавшего между буграми, давно уже не осталось и следа.
Другой трамвай вывозил приятелей в старую пригородную зону, застроенную почерневшими, в большинстве — двухэтажными деревянными домами. Дом от дома отделяли огородные полосы, уходившие в сторону дикого поля. Само это поле, повышаясь, переходило в холмистую гряду, с которой отлично просматривались ближний край города и самые высокие из его дальних строений. Хорошо было кувыркаться, бегать и загорать на этих холмах.
Разумеется, и в огромном каменном квартале, где жили друзья, и на всём их бесконечно-длинном проспекте, шумном и людном, было множество интересных мест и закоулков.
Шурка любил свой проспект, принадлежал ему, был его частью.
Что-то замирало и холодело в нём от восторга в те сумеречные мгновенья, когда вот-вот зажгутся фонари, а пока светятся только витрины и неоновые надписи, и в стремительно несущемся потоке все лица, все голоса так загадочны и зовут за собой.
Набегают из мрака троллейбусы — светящиеся серо-сине-стеклянные зверюги, с шипением приседают на все четыре лапы, заглатывают огромную толпу на остановке и мчатся дальше…
Да, Шурка любил свой проспект. Но в душе его накопилась жажда простора, дальних горизонтов, голубого и зелёного раздолья природы.
Надежда набегаться всласть, предчувствие надвигающихся открытий томили его ещё в поезде. Не слыша дорожных разговоров, как глухой, метался он поперёк вагона, от того окна к этому.
Потом, прилипнув к автобусному стеклу, жадно рассматривал медленно поднимающийся в гору однообразный суховатый лесочек. И вдруг вскрикнул: всё осталось позади, словно обрушилось в бездну — глубоко внизу белели коробочки санаторных корпусов, кудрявились тёмно-зелёные комочки деревьев, сверкали между ними разноцветные кусочки эмали — крыши легковых автомашин. А ещё дальше, ещё глубже — так, что сосущая пустота возникала где-то под ложечкой, — синело море. И на эту новую планету автобус теперь плавно-плавно опускал путешественника Шурку.
Окно вагона, окно автобуса… Вся поездка стала для Шурки окном в другую возможную жизнь. Сегодня целый день он упивался простором. Даже сейчас, в сине-фиолетовом полумраке палаты царил простор — от стены до стены, и в длину, и до потолка.
Шурка поднялся, шагнул к окну, раскачал пальцами задвижку, тугую от масляной краски, и медленно открыл створку. Доносившееся всё время в палату неумолчное стрекотанье сразу стало намного громче. Стрекотали, надрываясь до звона — нет, не кузнечики, а какие-то неведомые, неистовые существа.
Тут, однако, маленький лёгкий музыкант, прямо из темноты природы, прыгнул Шурке на руку, исполнил свою трель и в панике кувырнулся обратно на землю…
Чуть виднелась невысокая ограда, а за нею, в плотной листве, пересыпались золотыми искрами огни далёкого курортного посёлка. Со вздохами ветра обрывками долетала музыка.
Шурка закрыл окно, опустился на койку и, едва коснувшись головой подушки, заснул так же мгновенно, как полчаса тому назад заснули все остальные ребята.
Однажды утром, незадолго до купания, Шурка увидел ярко-красную легковую машину, промчавшуюся через лагерные ворота.
Толпа ребят бросилась за машиной, с удовольствием вдыхая на бегу едкий зловредный дымок пополам с пылью.
Когда Шурка с ребятами, уже заспорившими насчёт марки автомобиля, подбежал к дому с башней, дверца машины открылась. Вышли двое: мужчина — водитель этого диковинного автомобиля, и мальчик, ровесник Шурки.
— Сергей, стой пока тут! — сказал водитель, весело оглядывая собравшихся ребят, и направился в дом, наверное, прямо к начальнику.
Мальчик кивнул головой, кашлянул и остался стоять у дверцы, держась за сверкающую ручку. Не зная, куда смотреть, он стал разглядывать светлые камушки у себя под ногами. Из глубины машины на мальчика сочувственно посматривали две женщины и девочка лет шести.