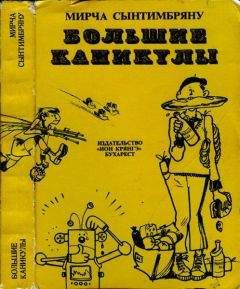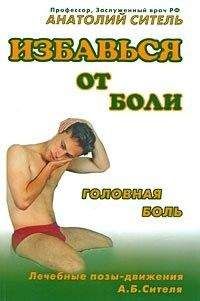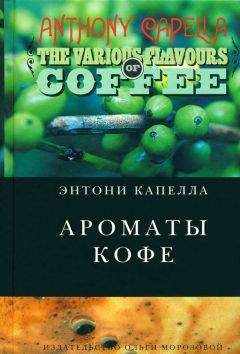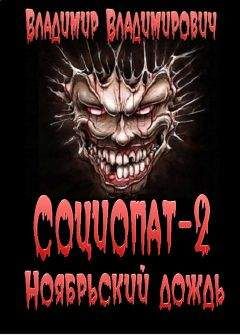— Он из нашего класса, честное слово… Наш одноклассник…
«Но кто им поверит?» — И при этой мысли грудь Гогуцы вздымается, захлестнутая волной доброты и тепла. Теперь вокруг больше нет нестриженных затылков, слепых лампочек, запачканных мелом людей… Зал — темный и теплый, как домашняя печь, весь — одно дыхание, едва сдерживаемое дыхание — следит за высоким, то плавным, то порывистым полетом жаворонка, за реющей бабочкой, за взмывающим в небо журавлем — следит за полетом мелодии, которую поет он, Гогуца…
Гогуца слышит свой голос, чувствует, что его ария волнует, потрясает, приводит в неистовство зал, и лишь смутное ощущение, что его плохо видно со второго яруса галерки — оттуда, где он сидел вчера вечером, — заставляет его податься немного налево… Мальчик наталкивается на соседа, качающего головой в такт звукам, но это его не беспокоит. Лишь на минуту у него мелькает удивление: как это он попал, вместе с партой, сюда, на сцену… «Какой бестактный этот Василеску», — думает Гогуца, но ему некогда сердиться. Оркестр подходит к главной арии.
«Какой успех!» — восхищается Гогуца. — Зал полон и все глаза устремлены на него. Люди толпятся и в фойе, и на площади. Везде развешаны громкоговорители. Подумать только: передают по радио! Меня слушает весь квартал, весь город, вся страна!!! Девочки из моего класса, Кока, Лилика, Мери — умирают от зависти. Но — так им и надо! Ох, какой у меня голос! Я словно вижу, как завтра же ко мне придет учитель музыки и будет извиняться, что не принял меня в хор… И потом, смущаясь, не зная, как приступить, станет просить:
— Гогуца, дорогой, умоляю тебя: завтра на «Аиду»… одно местечко, для меня и семьи… на ногах, на балконе, как угодно… Не откажи…
А он, Гогуца, бессильно пожмет плечами… То есть нет, он скажет великодушно:
— М-да… Постараюсь что-нибудь сделать… Попрошу режиссера уступить вам свою ложу… Но могу обещать только на утренний спектакль. Вечером нет ни одного местечка. Вы понимаете: пресса, посольства, иностранные туристы, всевозможные делегации… На всякий случай, поговорите с директором школы… Может быть, он откажется в вашу пользу…
Директор, который, разумеется, уже подстерегает его из-за колонны, услышав, что говорят о нем, кидается к нему со всех ног:
— О, мое почтение, товарищ Гогуца… Какая честь!..
Но Гогуца знает, о чем тот хлопочет. Он говорит ему — так, между прочим:
— Обещанное место я устроил, в первых рядах… Не спрашивайте меня, чего мне это стоило… Только вам придется принести из дому стул…
— О, благодарю вас от всего сердца, товарищ Гогуца. Я знаю вас с первого класса, но, право же, не подозревал, что у вас такой голос…
— У меня и другой есть! (Ах, эта волнующая, всемогущая метаморфоза!) Я могу петь и Дона Базилио… Меня попросил директор оперы! Актер, поющий эту партию, немного охрип… А для меня это не составляет труда: все равно у меня голос меняется… Извините, одну минутку, я только переоденусь…
Огромное, удивленное «А-ах!» захлестнуло партер, балконы, фойе, площадь…
Журналисты бросаются на сцену, и записные книжки дрожат у них в руках:
— Интервью, маэстро!
— Потерпите немного, я возьму еще нижнее «фа». Готово! Прежде всего, я хочу повторить: мне не нравится давать интервью, когда я пою. Это последнее исключение…
— Благодарим вас, маэстро! Мы все — внимание.
— Во-вторых, могу вам заявить, что я пою с трех лет. Последние гастроли в Миланской «Ла Скала» и в Московском Большом театре принесли мне мировую славу. Я с большим успехом пел партию Альфреда из «Травиаты» и Радамеса из «Аиды», и воеводы Мона Лютого. А теперь — довольно. Мне нужно допеть еще два-три такта, ведь вы знаете, что артист принадлежит публике… Вон как она бурлит, прямо как извергающийся вулкан!
— Бис! Браво-о! Бис!! Браво-о-о!!!
— Мне очень жаль, но у меня больше нет времени… Я должен поклониться, на ходу отыскать знакомые лица, на которых блестят слезы… Все бросают мне цветы… Вот я уже потонул в них по колено… по пояс… по грудь… Ох, я задыхаюсь! Нужно попросить контролеров впредь не пускать в зал с цветами! Меня вызывают, все кричат:
— Гогуца! Го-гу-ца! Го-гу-ца!!
— Гогуца! Го-гу-ца!
— А?.. Я!..
Это голос учителя.
— Ты что, заснул? Пой гамму! До-о-о…
Гогуца Попеску ошеломленно поднимается, смотрит на нестриженные затылки своих одноклассников…
— До… ре…
… на увешанные верхней одеждой стены…
— Ми… фа…
… на уже заполненный нотный стан на доске…
— Соль… ля…
… и на девчонок, украдкой поглядывающих в зеркальце и бессовестно хихикающих…
— Почему ты молчишь?
Гогуца подносит руку ко лбу, на котором спелой земляникой сияют прыщи, и, вдруг возвращаясь к действительности, заявляет:
— Не буду я петь… мне стыдно… девчонки смеются…
ГОРН УЖЕ ДАВНО ПРОИГРАЛ ОТБОЙ. Во всем доме больше не слышно ни звука. Только внизу, на первом этаже, из незакрытого крана монотонно падают капли и ударяются в жестяную раковину умывальника. Кап-кап-кап! Дежурный вожатый тоже заснул, выдержав последнюю — и не самую легкую — битву: уложив детей спать.
— Спальня номер три, гасите свет!
— Ха-ха-ха!
— Кто там смеется, во второй?
— Хи-хи, товарищ вожатый, у меня опять кровать провалилась!
— Хр-р-р… хр-р-р…
— Хи-хи!..
Наконец, битва выиграна на территории обоих этажей… Тишина… Кап-кап-кап!
Только обитатели спальни на двоих, расположенной в глубине дома, кажется, еще не спят. Лежа в постели возле окна, старший мальчик рассказывает о подвигах Дика-Черного пирата. Другой, помладше, лежащий возле двери, уже полчаса как бормочет спросонья, еле двигая языком:
— Хы… ага… угу…
Наконец, пират пойман и повешен, а рассказчик, опершись на спинку кровати молчит, глядя в открытое окно.
Кап-кап-кап!
Луна торопливо плывет сквозь тучи, как кастрюля с золотистым супом, а лес, остановившийся в десяти шагах от дачи, шумит таинственно и мрачно… как Черный пират.
— Эй, клоп, ты не спишь? — спрашивает вдруг старший, повернувшись в постели.
— Ыхы…
— Вот и хорошо. Давай еще поговорим. Знаешь, мне совсем не хочется спать.
Мальчик усаживается в постели по-турецки и говорит чуть охрипшим голосом, тревожно поглядывая на луну, повернувшуюся своим ликом, похожим на подгоревший омлет:
— И потом, ты даже не представляешь себе, как мне все это нравится: ночь, темь, окровавленная луна, зловеще разрывающая свинцовые тучи, вот как сейчас… полосы тени на ставнях… видишь?.. Как будто решетка… И эта сухая ветка, которая вырисовывается на них, словно когтистая лапа, и качается, и скрипит… Представь себе, что на ней… повешен Черный пират…
— Ыхы…
— Правда ведь, ты боишься? Тогда иди ко мне в постель. Знаешь, я по ночам никогда не боялся. Наоборот, я люблю ночь… Она развивает в тебе смелость, мужество…
Вдруг смельчак замолкает, навострив уши. Окрепший ветер шумно хлопает где-то на верхнем этаже незапертой дверью. Во дворе развешанные для просушки простыни надуваются и бьются, подхваченные защепками.
— Слышишь, какие зловещие звуки… Они мне здорово нравятся!.. Я готов их всю ночь слушать, — продолжает он дрожащим и неверным голосом. — Знаешь, это ветер хлопает ставнями на чердаке. Кто-то, наверное, забыл их закрыть. Папа мне однажды рассказывал, как воры пробрались в дом через соседский чердак, с вилами и с ножами в зубах! Я воров не боюсь, но ты, если хочешь, иди ко мне, я подвинусь. Хочешь?
Несколько мгновений он молчит, ожидая ответа, и ему кажется, что весь лесной мрак привалился к окну и повис, уцепившись за занавеску. Где-то, совсем близко, раздается крик сыча.
— Это сыч, — уточняет мальчик, весь дрожа. — Очень симпатичная ночная птица, только глаза у нее страшные… Люди ее боятся: говорят, она предвещает несчастье… Предрассудки! Слышишь, как завывает? Кровь в жилах стынет, правда? А мне здорово нравится!.. Не к нам ли на крышу уселся? Скорее иди ко мне в постель! Чего ты ждешь? Хочешь умереть со страху? И потом, мой матрас мягче, а если хочешь, я могу тебе еще одну подушку подложить.
Мальчик у стены молчит. Но и сыч замолкает.
Кап-кап-кап!
Старший криво улыбается и облизывает пересохшие губы.
— Хорошо, что он замолчал. Прекрасная ночь… Слышишь? Какой зловещий шелест… вернее, треск… Все так неопределенно… Какая приятная, какая великолепная неопределенность, — продолжает он глухим голосом. — Это может быть летучая мышь или бабочка «мертвая голова» или призрак… или… или что-нибудь совсем другое… Например, два призрака! Слушай, не мучайся ты! Иди ко мне!
Тучи разрываются на клочки и бегут по небу, белесые, как пыльные тряпки в руках усердного дежурного. Ветер стих.