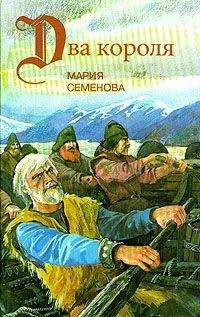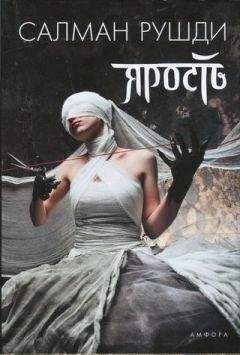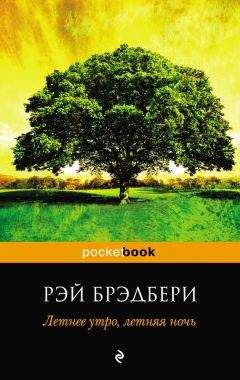Ратша не видел, как чёрным комом пролетел мимо взъерошенный Мусти: обрывок перекушенной тетивы хлестал пса по спине. Лапы Мусти глубоко увязали во мху, но он кинулся на Хакона с налета, не раздумывая, бесстрашно. Как на медведя, сграбаставшего друга-хозяина в цепкие когти. Хакон пнул наседавшую лайку ногой, отшвырнул прочь. Мусти с визгом перевернулся в воздухе, но сразу вскочил и бросился снова. На этот раз ему досталось вдетым в ножны мечом – отлетев в сторону, он остался лежать.
Ратша между тем поднял руку к лицу. В левом глазу бесновалось гудящее пламя, но правый был ещё цел, и багровая тьма медленно расступилась, дав ему увидеть стоявшего перед ним Хакона. У Хакона тоже был в руке меч, и гёт держал его наготове. Так вот, значит, какая цена всем его разговорам о мире. Бешеная ярость подхватила Ратшу, бросила вперёд, утраивая силы. Ха-кон сперва попятился перед ним, потом остановился. Два длинных меча встретились с лязгом.
Солнце садилось – могучие Боги войны знатно веселились на окровавленных небесах. Меч Хакона полыхнул в сумерках, казнил корявое деревце, но даже не замедлил полёта. Ратша отбил гётский клинок, не допустил его до себя и тут же сам рванулся вперёд – получай… Ему повезло больше: Хакон охнул – вполголоса, не в голос.
Теперь они шатались почти одинаково, но чутье воина подсказывало Ратше, что он ослабеет первым. Ещё немного, и свалится Хакону под ноги, и тот добьет его со словами: это за Авайра тебе… Вспышка ярости выгорела, как сухая солома, не способная дать долгого жара, и знакомый меч казался неправдоподобно тяжёлым, каждый замах будто откраивал лоскут от жизни, ещё сохранившейся в теле. Солнце медленно дотлевало за лесом, сгущалась кромешная осенняя ночь. Ратша на своём веку видел немало, не в одних веселиях веселился; случалось, калечили, и жестоко – по ползимы в ранах лежал… но такого, как ныне терпел, – ни разу ещё. Может, вот так и является к воину государыня Смерть. Минет год-два, придут добрые люди на это болото за сладкой ягодой морошкой, найдут три кучки сгнивших костей да ржавые мечи, покачают головами и станут гадать, кто здесь кого побил!..
Впрочем, ни о чем таком Ратша не думал. Просто, слабея, намеренно промедлил, позволил Хакону достать себя ещё раз. Велик воин, у кого хватает мужества на подобный прием, трижды велик, кто сумеет распознать ловушку и не попасться в нее. Раненый Хакон подвоха не угадал. Ратша принял на грудь раскаленную, брызжущую искрами полосу… и тут же срубил гёта косым страшным ударом, от которого не было обороны. Верный меч не обманул его, не подвел, но тьма снова сомкнулась, – некому было поглядеть, как Хакона швырнуло навзничь в истоптанный мох…
Ратша продержался на ногах дольше. Он ещё постоял победителем – огромный, чёрный на остывающем небе… потом и его повело, как вынутое из горна железо, он слепо шагнул, привалился к сухой сосне. Обдирая плечом кору, сполз на мшистую кочку и остался сидеть. Больше ему не сдвинуться с места; завтра утром Всеслава тронется в путь и будет уходить всё дальше, так и не узнав, что он был совсем рядом с ней. Никто не позовет её сюда, не расскажет ей, что с ним приключилось.
Пелко решил обойтись в эту ночь без костра. Дымок над болотом будет заметен издалека, мало ли кого он может привлечь; а и ни к чему бы – за день-два до встречи с охотниками ижорского племени, с Устья… Придя на выбранный для ночлега островок, он сказал об этом Всеславе, и она без слова раскидала по кустам уже собранный хворост. Боярыня, которой хотелось отведать горяченького и высушить промокшую обувь, поохала было, но упрашивать корела не стала. Ему видней.
Пелко посмотрел на низкое солнце, развернул своё одеяло и лег возле оплетенного травой валуна, положив рядом копье.
– Разбудишь, как стемнеет, – попросил он Всеславу, и она привычно кивнула. Так они поступали с первого дня. Закатится солнышко – и Пелко снова продерет глаза, примется бесшумно похаживать кругом островка. Ему, охотнику, не привыкать бороться со сном.
…На исходе сумерек он встрепенулся, будто кто тряхнул его за плечо. Нет, не Всеслава: она смирно сидела возле соседнего камня, держа маленького на коленях, и тревожно смотрела в просвет между деревьями. Пелко смутно видел её лицо, укрытое тенью. Так смотрят, когда ещё не появился, но вот-вот появится кто-нибудь страшный.
– Что?.. – тихим шепотом спросил корел.
Всеслава оглянулась с облегчением и ответила столь же тихо:
– Зверь вроде провыл.
Зверь – это ещё ничего… Пелко вновь натянул одеяло и начал ждать, чтобы вой повторился. Однако болото помалкивало, и тогда он подумал, что, может, это пробовал голос его одноглазый знакомец. И странное дело: при мысли о диком волке вдруг повеяло родным и глубоко внутри будто ослабла туго натянутая тетива. Вправду, что ли, скоро уже дом…
Пелко поднялся и сложил одеяло, с тем чтобы не одолевал соблазн поваляться ещё. Подошёл к Всеславе, сел рядом.
– Ложись. – сказал он ей. – Спи.
Боярыня тихо посапывала. Слишком устала, чтобы просыпаться на какие-то ночные голоса. Всеслава посмотрела на нареченного братца и ничего ему не ответила, но он углядел блестящие капли у неё на ресницах. И вдруг до смерти захотелось обнять её, беззащитную, коснуться губами мягких волос, прошептать ей на ухо – сам толком не знал ещё что… Но тут же вспомнил, как накликал Ратшу тогда возле буевища, и окатило холодом. Не время. Да и ей, по всему видать, не до того.
Пелко потянулся к одеялу, подтащил, отдал его, тепленькое, Всеславе:
– Возьми… зябко будет.
Подобрал копье и пошёл на край островка – пристально следить за наползающей темнотой.
…Наверное, надо было хотя бы вытеребить пальцами клочок белого мха, втолкнуть под разодранную куртку, как-то утишить катящуюся кровь… Тело глупое будет хотеть жить до последнего. До тех пор пока не пересохнут все жилы и не остановится сердце.
Гордому Ратше так и не суждено было упасть: он всё ещё сидел под мертвой сосной – злая судьба тому, кто весной услышит с такого дерева первую кукушку. Его нескончаемо крутило, словно бы в медленном водовороте: ни выплыть, ни погрузиться на дно… Порою наваливался смертельный холод, и толчки в груди совсем затихали, редея, и Ратша каменел, превращаясь в лед, весь, от кожи на лице и до кончиков пальцев, смерзавшихся на рукояти меча. И нечего был ждать, кроме конца. Но потом жаркий пот начинал течь по спине и лёд плавился, смешиваясь с сыростью болота…
Долго или коротко это тянулось – Ратша не знал. В какой-то миг он всё же открыл зрячее око и увидел, что тучи разорвались и над северным краем земли дрожали бледные сполохи. Точно разматывалась бесконечная зеленоватая бахрома, и звездный ветер порывисто раздувал её в небесах – открытые топи отражали вздрагивающий блеск… Ратша чуть повернул голову, отыскал взглядом Хакона. Хакон лежал рядом, на расстоянии шага. Он смотрел на Ратшу пристально, не мигая. Глаза были живые.
– Вот и примирились. – вдруг сказал ему Ратша. Выговорил и сам подивился не столько собственным силам, ещё, оказывается, остававшимся, сколько сожалению, кольнувшему в самую середину души. Хакон не был предателем. Он ведь предупредил его об Авайре. Да и после не кинулся добивать ошеломленного… зря дрались!
Хакон с видимым трудом собрал дыхание для ответного шепота, такого же жалкого. Но Ратше показалось, что гёт усмехнулся. Чему? Может быть, уже завидел деву валькирию, присланную за ним из небесных чертогов?
– Живы… оба ещё. – долетело до слуха.
Ратша так и не смог выбить у него меча, пока дрались. Теперь Хакон неожиданно сам выпустил его из ладони, и потертая серебряная рукоять канула в болотную мякоть. Так, без жалости, оставляют лишь вовсе ненужное, то, что никогда больше не пригодится. Ловя ртом воздух, Хакон медленно повернул себя на бок… и его правая рука пядь за пядью поползла к словенину, тот и не понял сразу, зачем. Но потом понял – и тоже покинул на коленях залитый кровью черен. Он, правда, так и не сумел дать гёту правую руку, дал левую. Ну ничего, сказал он себе, пускай не десница, зато к сердцу поближе… Пальцы Хакона обняли его ладонь, передали тепло. Ратша ведь вправду никогда не был на Готланде. И родился словенином, а не варягом.
– Незачем умирать. – выдохнул мореход. И больше ничего уже не говорил.
У Ратши голова клонилась на грудь, глаз почему-то стал слипаться. Он ещё посмотрел на гёта и, кажется, впервые не увидел у него на лице ни вызова, ни насмешки. Было только что-то странно похожее на мудрость… Ратша подумал об этом, и мысли опять принялись путаться. Он откинул голову, прижимаясь затылком к сосне, и опустил налившееся невыносимой тяжестью веко. Тому, кто засыпает, всегда верится, что он будет слушать внимательнее, если закроет глаза.