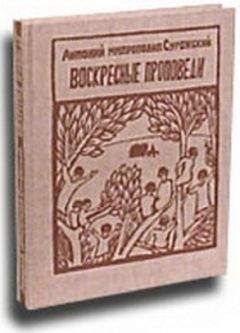Я сплевываю и прополаскиваю рот.
— Что думаешь? — спрашивает Лимон. — Забьем на пижаму и пойдем в уличной одежде? Может, заработаем несколько очков.
— Кажется, это не самый удачный день для непослушания, — говорю я. — Мы же не хотим, чтобы наши родители подумали, что в Академии с нами не справляются, и забрали нас отсюда, так?
— Верно подмечено. — Он оставляет мой сверток на полке и возвращается в комнату.
Я переодеваюсь и думаю о том, что только что сказал. Очень долгое время я больше всего на свете хотел поговорить с родителями, услышать их голоса. Теперь я рад, что увижусь с ними… но и боюсь этого. Так много всего произошло с тех пор, как я звонил домой на День благодарения, и я тысячу раз прокрутил в голове тот односторонний диалог, но до сих пор слышу каждое слово и каждый звук так, будто это было вчера. Несмотря на все, чего я за это время достиг в хулиганстве, сегодня воспоминания с новой силой нахлынули на меня, как только прозвенел будильник.
Что, если они все еще на меня сердиты? Настолько сердиты, что даже не приедут? Или еще хуже — приедут, но возьмут с собой Бартоломью Джона? Чтобы я почувствовал себя так же плохо, как они?
Страшнее этого может быть только один сценарий: они не приедут, потому что забыли про своего сына-преступника и решили жить дальше. Это подтвердило бы мои догадки, которые возникли после того звонка.
Стараясь не думать об этом, я собираюсь, и мы с Лимоном направляемся к Арене Килтер. Это красивое название носят тент, деревянный настил и скамейки, которые здешние техники установили вдалеке от основной территории специально по случаю. Я чувствую себя неплохо, но когда мы доходим до главных ворот, у меня вдруг отнимаются ноги. Я застываю перед выходом и не могу сдвинуться с места.
— Симус? — Лимон останавливается рядом.
— Все хорошо. Мне просто нужна минутка.
Он дает мне минуту и еще несколько секунд. Потом говорит:
— Ты хороший друг.
Я смотрю на него:
— Что?
Лимон поднимает плечи:
— Ты примирился с моей нездоровой тягой к огню. Ты беспокоишься обо мне, когда я хожу во сне. Остаешься спокойным, когда Габи и Эйб начинают психовать. Ты шикарно все провернул с мистером Икстом. — Он опускает плечи. — Ты хороший друг. Хочу, чтобы ты имел это в виду, когда мы туда придем.
Дома у меня есть друзья. Не очень много и не из таких, у которых остаешься с ночевкой, — пара-тройка приятелей, с которыми можно сесть рядом в автобусе или поболтать на уроке физкультуры. Но мы с ними никогда не переживали того, через что мы прошли с Лимоном. В конце концов, не каждый день выпадает случай напасть на учителя, спастись от учителя, подвергнуть смертельной опасности своих одноклассников… и получить похвалу и награду за старания.
В Академии Килтер именно на этом строится дружба.
— Спасибо, — говорю я. — И ты тоже.
Этот короткий разговор придает нам обоим сил, и мы выходим на Арену. Действо еще не началось, и ребята и взрослые рассыпались по скамейкам. Я замечаю Эйба: он без умолку болтает с мамой, а рядом с мамой сидит его отчим и смотрит на сцену. Двумя рядами выше между своими родителями устроилась Габи. Здесь за разговоры отвечает мама. Каждые несколько секунд она поправляет волосы или смотрится в зеркальце. Когда Габи пытается заговорить, мама похлопывает ее по коленке, а папа стискивает руку у нее на плече.
— А вон Зигги и Бэбс. — Лимон кивает в сторону пары, которая сидит на траве возле скамеек. Отец Лимона — точная его копия, только с бородой и еще более сутулый. Мама примерно на полметра ниже, у нее длинные черные волосы и очень круглый живот.
— У нее будет ребенок? — спрашиваю я.
— С минуты на минуту. — Лимон слегка толкает меня кулаком в плечо. — Удачи. Я тебя потом найду.
Он подбегает к родителям. Мама приподнимается на колени и крепко сжимает его в объятиях. Отец пожимает ему руку и гладит по голове. Они искренне рады видеть Лимона — и это вдохновляет меня на то, чтобы поискать собственных родителей.
Я обхожу арену по кругу. Не замечаю их и делаю второй круг. Я уже собираюсь выйти на третий и начинаю волноваться, что они так и не приехали, как вдруг слышу знакомый голос.
С бьющимся сердцем я иду на голос по широкому проходу между скамейками, ведущему к сцене. Делаю шаг и замираю.
Я вижу ее. Мою маму. Но она не сидит на скамейке, как все другие родители. Она стоит на сцене, разговаривает с Анникой… и смеется.
— Парень!
Меня подхватывают две руки и сжимают так крепко, что мои ноги отрываются от земли.
— Как я рад тебя видеть! Ты вырос? Ты вроде стал повыше!
Я отвожу взгляд от сцены и глажу полные руки, обхватившие меня за плечи. Когда они меня отпускают, я поворачиваюсь и заключаю папу в объятия. Глаза наполняются слезами. Я жду, пока они высохнут, и только тогда разжимаю руки.
— Привет, пап.
— Привет, сынок. — Он взлохмачивает мне волосы, и я замечаю, что у него в глазах тоже стоят слезы. — Прекрасно выглядишь. У тебя все хорошо?
— Я в порядке. — Теперь, когда я вижу, что он действительно рад встрече со мной, это и вправду так. — Как ты?
— Отлично! — Он хлопает по животу. — И легче на три кило, спасибо маминой новой…
— Привет, Симус.
Я уверен, что мое сердце перестало биться, но все же нахожу в себе силы обернуться.
— Мама. Привет.
Она стоит в проходе. На ней красное пальто и туфли на высоких каблуках. Она подстригла и высветлила волосы. На губах у нее помада. Я замечаю это, потому что она никогда не красится — и потому что губы у нее сжаты в тонкую тугую полоску.
Она зла. Расстроена. Взбешена. Может, она и смеялась с Анникой минуту назад, но она все равно рассержена тем, что ее собственный сын мог сделать такую ужасную вещь с мисс Парципанни.
— Я скучала по тебе, — говорит она.
Ее губы растягиваются в широкой улыбке, и мама крепко меня обнимает. Папа обхватывает руками нас обоих, и мы стоим словно один большой сэндвич, пока Анника не просит всех занять свои места.
— Я слышала, что ты делаешь огромные успехи, — шепчет мама, когда мы усаживаемся. — Я очень рада за тебя.
Она не сердита. Она не зла и не расстроена. Она рада! Я даже не помню, когда мне последний раз удавалось ее порадовать. Это так приятно слышать, что я решаю повременить с вопросом про Бартоломью
Джона.
Начинается презентация, тщательно продуманная с расчетом на родителей. Преподаватели и сотрудники Академии одеты в зеленую форму и обуты в высокие ботинки — точно так выглядела Анника при нашей первой встрече. Сейчас на ней такой же наряд. Все они сидят за кафедрой на складных металлических стульях. Старшеклассники рассказывают о всех плохих поступках, которые они совершали до Академии, и обо всех хороших поступках, которые они начали совершать, когда поступили сюда. Гудини, Ферн, Уайетт и другие учителя рассуждают о том, как важно соблюдать дисциплину и слушаться старших. Все они выглядят очень строгими и серьезными. Уверен, ни один родитель не догадывается, что у одного из учителей к ноге привязана высокотехнологичная подушка-пердушка.
Я слушаю вполуха. Мое внимание обращено на маму, которая держит меня за руку и улыбается, будто на сцене выступают танцующие клоуны, а не сотрудники исправительной школы, и на папу, который снимает руку у меня с плеча только затем, чтобы погладить меня по голове, когда кто-то говорит о «вашем послушном ребенке». И я думаю: есть шанс, все-таки есть шанс, что все наладится. Я сделаю здесь то, что должен, с пользой проведу время вместе с моим хорошим другом Лимоном и улажу все с Элинор. А потом поеду домой, и мы с мамой и папой будем разговаривать чаще, чем раньше, и станем еще дружнее.
И может быть, мы не будем вспоминать случай в буфете как ужасное, кошмарное происшествие, которое разрушило нашу жизнь. Мы будем вспоминать его как ужасное, кошмарное происшествие, которое изменило нашу жизнь — к лучшему.
Я так обнадежен этими мыслями, что, когда мы отправляемся на экскурсию по территории, иду почти вприпрыжку. И это о многом говорит — потому что Анника ведет нас не мимо привычных садов и ухоженных сверкающих зданий. Вместо этого мы спускаемся по темному подземному тоннелю, который начинается на заросшей травой поляне возле арены и выводит нас на грязный голый клочок земли почти в километре оттуда. Мы выбираемся во двор перед старым домом, который я никогда раньше не видел. Он напоминает административное здание, где я оказался в первый день, только он больше и страшнее. Снаружи двор окружен колючей проволокой, словно рождественская елка гирляндой. На мутных окнах железные решетки. Из-за забора на нас рычат мускулистые собаки с острыми клыками.
Мы заходим внутрь. Свет сюда не проникает. В общих холлах почти нет мебели, никаких телевизоров и тому подобных вещей. В классах стоят деревянные столы, стулья и висят доски, на которых мелом написаны фразы о дисциплине и послушании. В спальном крыле две большие комнаты с матрасами на полу: одна — для мальчиков, другая — для девочек. На матрасах лежат серые простыни и плоские подушки — чтобы создать видимость, будто здесь действительно спят.