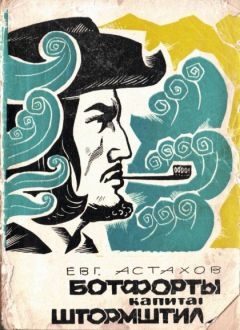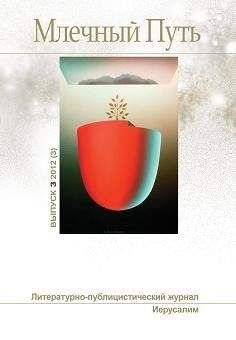Тошка осторожно поймал кончик хвоста. Лошадь продолжала идти, монотонно цокая подковами по твердой, кремнистой тропе. Тошка шел сзади, держа хвост, как королевскую мантию. Наконец, он рискнул чуточку натянуть его. Лошадь не обратила на это никакого внимания. Тогда, пройдя еще полсотни шагов, Тошка повис на хвосте уже основательно.
— Вперед, Изольда! — прикрикнул на нее идущий впереди Володя. — Веселей, старушка, и не делай вид, что у тебя к хвосту привязан трактор. Меня не проведешь!
…Только под вечер караван вышел к перевалу. Здесь решили разбить лагерь. Ладони у Тошки одеревенели — лошадиный хвост был далеко не шелковым. Ныла спина, проклятый фотоаппарат всю дорогу стукал по ноге, и теперь она была в синяках.
— Володя занимается лошадьми, — распорядился Ираклий Самсонович. — Все остальные — по дрова!
Нагибаться Тошка не мог. Найдя сухую ветку, он падал на колени, а потом, опираясь на нее, с кряхтением поднимался. Что было на ужин, Тошка не разобрал. Он просто придвинул к себе миску, отломил от каравая кусину хлеба и макнул ее в горячее, пахнущее чесноком варево.
— Хороша моченка!
— Хорошая — согласился с ним дядя Гоша. — Чесночок за душу так и берет! Без него и еда не еда. И кроме того- профилактика!
— Какая? — не понял Тошка.
— Обыкновенная. Можно воду из любой лужи пить, самая живучая микроба подохнет от чесночного аромата. Проверено!..
Впервые в жизни Тошка ночевал у костра. Забравшись поглубже в стеганый спальный мешок, он не отрываясь смотрел в бездонное ночное небо, усыпанное крупными холодными звездами. Стреляли дрова в костре, шумно вздыхали развьюченные лошади, в лесу пронзительно звенели цикады и кто-то бродил, потрескивая сухим валежником. Рядом с Тошкой храпел на все лады Ираклий Самсонович, а дядя Гога сидел на ящике у костра и, задумчиво глядя в огонь, сосал махорочную козью ножку. На его острых коленях, обтянутых потертыми кожаными галифе, лежала двустволка. Тошка вылез из мешка и, взяв охапку сухих веток, подошел к костру.
— Ты чего не спишь? — спросил его дядя Гога.
— Да так чего-то… А что это в лесу все время хрустит? Может, медведь?
— Вряд ли. Скорее всего кабаны или барсуки. Медведя лошади за версту почуют и такой поднимут храп, что сам Ираклий Самсонович позавидует.
Дядя Гога встал и, подойдя к Ираклию Самсоновичу, перевернул его на другой бок. Тот что-то проворчал сквозь сон и, натянув на голову полу лохматой бурки, затих.
Утром Тошка проснулся первым. Буковый лес стоял вокруг потухшего костра мраморной колоннадой. В синих ущельях сонно ворочались клубы густого тумана. Маленькая речушка, прыгая по высоким каменным ступеням, с шумом бежала куда-то вниз, в непроходимые заросли черники. Крутобокий валун, весь поросший мягким мхом, преграждал ей путь, и речушка делала петлю.
Взобравшись на валун, Тошка увидел невысокую запруду из плетня и камней. От нее шел ряд перекрещенных жердей, на которые опирался желоб, выдолбленный из древесного ствола. Желоб круто спускался вниз. Сквозь щели, заткнутые мхом, тоненькими струйками сочилась вода. Тошка пошел вдоль желоба. Раздвинув кусты черники, увидел бревенчатый домик, такой, каким обычно рисуют избушки на курьих ножках. Домик тоже был на ножках, только не на курьих, а на крепких деревянных, сделанных из потемневших от времени бревен. Слетевшая с желоба струя воды била в лопасти, с легким стуком вращая колесо. Скрипел деревянный вал, и вся избушка мелко подрагивала.
«Мельница, — догадался Тошка. — Значит, где-то близко должно быть жилье».
Дверь мельницы была закрыта. Тошка поднялся наверх по толстому брусу с глубокими косыми зарубинами и отодвинул отполированную руками щеколду. Протяжно заскрипев, дверь отворилась. В полутемном помещении стоял горьковатый запах старой кукурузной муки. В углу, прислоненные к стене, замерли, словно дремлющие часовые, громадные глиняные кувшины с острым дном. Привстав на цыпочки, Тошка сунул руку в один из них. Ладонь уперлась в твердые, как гравий, кукурузные зерна. Два других кувшина оказались пустыми, а четвертый был полон грецких орехов. Тошка не удержался и, вынув из чехла маленький геологический молоток, подарок дяди Гоги, разбил орех.
— Эге-гей! — раздался где-то возле мельницы дядин голос. — Антонио-о!
Бросив разбитый орех, Тошка подтянулся на руках и выглянул в узенькое окошечко, прорубленное под самым потолком. У желоба стоял дядя Гога и глядел прямо на Тошку.
— Чего выглядываешь, как дятел? Вылезай-ка оттуда! Все уже позавтракали, пора выходить.
— А откуда ты узнал, что я здесь? — удивился Тошка.
Дядя Гога неопределенно хмыкнул. Потом сказал:
— Если бы я не смог найти тебя, то как же я отыщу барит, который не оставляет за собой почти никаких следов.
Он поднялся на мельницу по тому же заменявшему лестницу брусу. Пошарил в кувшинах.
— Ну как, нашел орехи?
— Нет, — покраснел Тошка.
— А это что? — Дядя Гога поднес вывернутую ладонь к Тошкиному уху. — Ап!
Но ничего не получилось. Орехи из его рукава посыпались мимо ладони, на пол.
— А ставридки жареной в ухе нет? — рассмеялся Тошка.
— Ставридки нет, — вздохнул дядя Гога. — Вкуснейшая была ставридка!.. М-да, не выходит у меня этот фокус. — Он еще раз крутанул ладонью, сказал «Ап!», но орехи снова посыпались на пол. — Так и освистать могут.
— Дядя Гога, а почему здесь мельница? — спросил Тошка. — Село, что ли, рядом?
— Сел здесь вообще нет. А до ближайшего хутора дневной переход. Это хутор Хабаджи. И мельница его.
— Зачем же он построил ее так далеко от дома?
— От дома далеко, зато от поля близко. Здесь, в горах, очень трудно найти ровную площадку земли. Поэтому и живут люди хуторами, а поля их разбросаны по лесным полянам, порой за полтора-два десятка километров от дома.
— А кто такой этот Хабаджа?
— О, это знаменитый проводник! Старый друг геологов. Он все горы, как свой дом знает, все тропинки, а где нет тропинок — ориентируется по зарубкам на деревьях. Ему девяносто семь лет, а ходит он получше нас с тобой.
— Девяносто семь лет!
— А ты думал! Абхазские горцы и до ста пятидесяти доживают в полном здравии и силе… Ну, пошли, пошли, а то Ираклий Самсонович будет ругаться. Возьми орехов, не стесняйся, они здесь, в лесу, целыми рощами растут.
Дядя Гога плотно прикрыл дверь, проверил, до конца ли зашла в паз щеколда, и только после этого соскочил на землю.
— Против нашего с тобой посещения Хабаджа, конечно, ничего не имеет, но на медведей это гостеприимство не распространяется.
— Дядя Гога, а у этой речки, что течет к мельнице, есть название?
— Да, ее зовут Бзия.
— Бзия? — разочарованно протянул Тошка. — Какое некрасивое название… А здесь вообще могут быть неизвестные речки?
— Думаю, что да. Где-нибудь там, подальше. — И дядя Гога махнул рукой в сторону перевала.
…Когда караван вышел на седловину, Тошка ахнул: внизу, расстилаясь на десятки километров до самого горизонта и скрывая от глаз все, что было расположено ниже перевала, плотной пеленой лежали облака. В этом бесшумно клубящемся море отдельными островками синели вершины соседнего хребта, а все остальное было словно укутано пуховой периной.
Тошка поднял голову; над ним прозрачное, бледно-голубое небо освещалось первыми лучами солнца, притаившегося где-то там, за линией горных массивов, прорисованных на востоке едва заметной фиолетовой полоской. Оттуда шло утро. Оно уверенно перешагивало через заборы хребтов и, пробив золотыми стрелами облачную завесу, весело сбегало в долину.
Дядя Гога оказался прав. Только к вечеру следующего дня караван подошел к хутору Хабаджи. На разные голоса залаяли собаки, в отблесках огня замелькали темные силуэты людей, громадный, как городская площадь, двор ожил.
— Тумоша! Тумоша! — пронзительно кричал худощавый высокий старик, размахивая коптящим факелом. Он подошел к дяде Гоге, протянул ему руку.
— Здравствуй!..
Потом, оглянувшись, еще раз нетерпеливо позвал:
— Тумоша!..
Из темноты вынырнул мужчина лет тридцати пяти в черкеске с пустыми газырями и в широких, свисающих на колени, бриджах из домотканого сукна. У него было добродушное лицо с коротким курносым носом и полными улыбающимися губами. Совсем светлый, соломенный чуб падал на глаза.
Старик что-то отрывисто сказал ему. Тумоша одернул черкеску и, прихрамывая, подошел к Ираклию Самсоновичу.
— Мой отец, Хабаджа, просит вас всех быть его гостями, — сказал он со свистящим абхазским акцентом. — Проходите в дом, лошадей мы сами развьючим. Женщины уже кипятят воду, скоро будет мамалыга.
Большой дом стоял на столбах, сложенных из дикого камня. Все в нем было сделано из дерева: полы, стены, потолки и мебель. Большая керосиновая лампа освещала гладко оструганные доски стен и затейливый орнамент резных столбиков, на которые опирался навес над галереей. Дерево имело какой-то необычный красновато-коричневый оттенок.