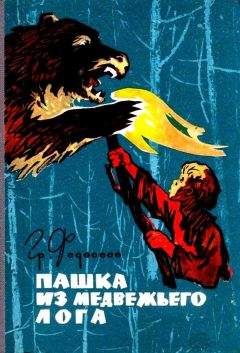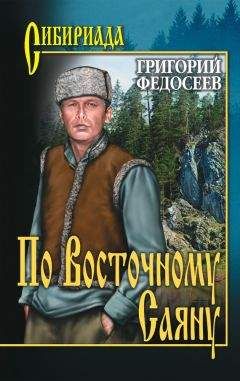— Что это за лесорубы?
— Нашенские мужики — Федор Кривых, что на речке живет, и дед Гераська, сторож сельпо. Этим ничего не стоит, не впервой им пакостить. Хуже зверей! Марфа к ним с добрым сердцем, в зимовье пустила, может, хлебом-солью делилась, а они что сделали? Убийцы!
Тут распахнулась дверь, и в комнату торопливо вошел Гурьяныч. Старик осунулся, выглядел уставшим, каким я не видел его даже в походе. Он, не поздоровавшись, присел на краешек табуретки и долго не сводил с меня грустных глаз.
— Порешили, негодяи, козленка! Сроду не ругался, да разве тут вытерпишь! У кого сердце не дрогнет от такого? Сам посуди: козленок с Марфой, можно сказать, примером всем нам были, как должен жить человек со зверем, а они порешили его. До каких пор будем терпеть пакостников на своей земле? Скажи, каку казнь им придумать?
Я вижу, как вдруг побагровело обветренное лицо Гурьяныча, как вздулись на нем синие прожилки вен и его глаза, всегда ласковые, добрые, наполнились гневом.
— Внуку еще нужна моя забота, а то бы взял грех на себя. Сейчас ушел бы в бор, своим судом расправился бы с убийцами.
— Это нельзя оставить безнаказанным. Они-то, Федор и дед Гераська, сроду шкодливые в лесу, — вмешивается Акимовна.
— Утром зайду к прокурору. Пусть статью им подбирает, сам на суде выступлю. Кончать надо с беззакониями в тайге, — строго говорит Гурьяныч.
— Съездили бы вы, Гурьяныч, к Марфе, ей легче будет, когда вас увидит. Надо бы вместе нам с вами отправиться, но у меня нет времени — завтра утром улетаю.
— Не знаю, как смотреть ей в глаза. За живодеров стыдно. Но придется съездить. Ежели муж ее, Тешка, не вернулся с промысла, перевезу ее с Петькой на смолокурню, с неделю у нас поживет.
Акимовна загремела самоваром. Старику немного полегчало. Он сбросил с плеч телогрейку, пододвинул табуретку к столу. Долго пили чай.
— Человека надо сызмальства, как только он начинает своими ногами ходить, приучать к природе. Без нее как можно жить?! — говорит Гурьяныч с душевной болью. — К примеру, наши ребята из поселка пойдут в лес, кака птичка попадется, бурундук, белка, — с рогатки их, а то и с ружжа. Мимо гнезд не проходят. Где зайчонка увидят — собаками стравят. Охальничают. На что годится?! А взрослые как ослепли, не видят, будто их не касается. Да и школа совсем в стороне. Что бы в неделю хоть на два часа уводить ребят в лес: им надо объяснять, для чего лес растет на земле, кто живет в нем. Даже в заведении такого нет. Оттого у людей и нет бережливости. А ведь ребята должны знать, что лес — это не только дрова да костры, но и великая человеческая радость. Насмотрелся я на лесное разорение и думаю: установить бы нам по всей стране в году несколько праздников и в эти дни всем народом выходить на природу, порадоваться да и пособить ей! Кака польза была бы для страны: враз бы поднялись леса, появилась бы всякая живность, звери и птицы, и браконьерству конец! — Гурьяныч решительно резанул по воздуху вытянутой ладонью. — А ведь нынче браконьеров поболе стало. В экспедициях все с ружжами, туристы тоже. Нигде от них спасенья нет живому, никаких законов не соблюдают. Говорят, что ружжа им нужны от медведей обороняться. Ишь побасенку каку выдумали! Медведь пуще всего человека боится. Да его теперь днем с огнем не везде найдешь. Мало стало. Право бы мое было — запретил брать ружжа в руки не в срок охоты, строгую ответственность наложил бы на беззаконников… — Старик посуровел, несколько минут сидел молча, потом добавил: — А главное, ребят надо сызмальства к порядку приучать, к уважению закона, иначе разорим мы свои богатства. Не так разве?
— Вы правы, Гурьяныч, не бережем природу, порою бываем даже беспощадны к ней. А ведь она как будто и охраняется хорошими законами, но законы — сами по себе, а браконьеры — сами по себе. Вы говорите, на ружья надо наложить запрет, но это, мне кажется, всего лишь полумера. Надо, чтобы у каждого из нас в сердце жила любовь к лесу, к зверю, к птице. Надо, чтобы у нас побольше было таких ребят, как Пашка. Уж они не позволят никому глумиться над природой…
— Дожить бы мне до этих лет! — говорит старик, поднимаясь и с грустью поглядывая на меня. — Они придут, разрази меня гром, придут! А на Пашку я тоже надеюсь. Он, шельмец, хотя еще и не оперился как следует, спуску не даст охальникам. Подрасти бы ему скорее…
Мы прощаемся. Долго жмем друг другу руки. Вглядываюсь в лицо Гурьяныча — встретимся ли мы еще когда-нибудь?
Не часто попадаются в жизни такие интересные люди, цельные натуры, как этот старик смолокур. Все в нем доброе, прозорливое, умное. Эта доброта от леса, от общения с природой.
Я провожаю его за калитку. Мы еще раз крепко пожимаем друг другу руки, и он уходит в темноту.
Возвращаюсь в комнату, сажусь за письма. О них обычно вспоминаешь в последние минуты сборов.
В доме тишина. Только ветер надоедливо стучит ставней, да на крыше гремит оторванный железный лист. Мне вдруг кажется, что кто-то неслышно вошел в комнату, стоит за моей спиной. Оглядываюсь:
— Пашка! Ты что так поздно?
Вид у него ужасный. Он без шапки. Волосы взлохмачены. В глазах ярость. Парнишка с трудом выговаривает:
— Борьку убили!..
— Я уже знаю.
— Дайте ружье, я им такое, устрою за козленка!..
— Что ты, милый мой, успокойся. Дедушка завтра сам съездит туда, разберется.
— Не дадите? — в его глазах решимость. Он выжидающе косит на меня горящие глаза.
— Нет, не дам… Ты успокойся, без тебя разберутся.
— Обойдусь и без ружья, — бросает он, выскакивая из комнаты.
Я ловлю его в прихожей. Парнишка отчаянно сопротивляется, и мне с трудом удается удержать его.
Затаскиваю Пашку в комнату. Крепко держу его за руки. Он не сдается. Тяжело дышит, не смотрит мне в глаза. Слышу, как бурно стучит его сердце.
— Ты что задумал? Молчание.
— Лучше скажи. Тогда вместе решим, что делать. Самовольничать тут никак нельзя.
Парнишка легонько двигает плечами, пытаясь высвободить руки, и поворачивает ко мне красное, запорошенное яркими веснушками лицо.
— Никогда им не прощу. Отрыгнется им Борька, вот увидите!
— Наказать их, конечно, надо, но по закону, а ты сразу за ружье!.. На что это годится? Долго ли с ружьем до беды?!
— Это я для смелости, — оправдывается Пашка.
— Для смелости… Ты еще слишком мал, чтобы самому решать такие вопросы. Положись на дедушку. Он непременно придумает, как поступить с браконьерами. Не отступится. А тебе советую выбросить из головы свою затею. Вытаскивай из чехла мой спальный мешок, забирайся в него и спи.
Пашка постепенно успокаивается. — Ладно, можно и остаться, — примирительно говорит он.
Соблазн был велик — заснуть в походном меховом мешке. Пашке это даже не снилось. Он с удовольствием достает мешок, стелет его на полу, раздевается и, забравшись поглубже, затихает.
— Спокойной ночи! — говорю я, довольный наступившим перемирием.
Парнишка что-то бурчит в ответ и в избе опять становится тихо. Только ветер по-прежнему стучит скрипучею ставней.
Снова сажусь за письма. Скучающий хозяйский кот, усевшись рядом на табуретке, что-то доверчиво бормочет мне о своей кошачьей жизни. Пашка не спит, беспрерывно ворочается, вздыхает, что-то трудно додумывает.
— Дядя… — вдруг слышится его голос.
Я поворачиваюсь к нему. Он сидит на спальном мешке.
— Ты почему не спишь?
— Зачем они убили Борьку? — Голос его дрожит. Он с трудом сдерживает слезы. — Я сейчас подниму всех своих ребят, побежим в бор, найдем их…
— Ты с ума сошел — ночью в бор! Кто это тебе позволит?! — И я строго погрозил ему пальцем. — Говорю, дедушка им не простит, найдет на них управу законом.
— Пусть дедушка по закону, а мы им сами что-нибудь устроим: на всю округу опозорим за Борьку так, что ни в тайге, ни в поселке места им не будет. Вот посмотрите!..
— Успокойся, Пашка, никуда я тебя не пущу, а тем более собирать ребят. Спи. Утром поедешь со мною на аэродром.
— Возьмете? — снова обрадовавшись, недоверчиво спрашивает он. — Ох, как мне охота близко посмотреть самолет!
— Это я тебе устрою: и самолет посмотришь, и проводишь меня. Я уезжаю надолго. Не знаю, встретимся ли мы еще когда-нибудь с тобой, Пашка? — Встретимся, о чем разговор. Иначе и быть не может!
— Ты прав: надо непременно встретиться. А теперь, поскольку нерешенных вопросов у нас больше нет, спи. Утром рано разбужу.
Он еще посидел с минуту, поморщил лоб от каких-то дум и, забравшись в спальный мешок, затих.
Покончив с письмом, я с облегчением, точно гора тяжести свалилась с плеч, лег в постель. Пашка уснул тяжелым, беспокойным сном, стиснув в гневе пухлые губы и откинув далеко назад правую руку, будто намереваясь кого-то ударить. У его изголовья отдыхал кот. Положив усатую морду на сложенные полудугою передние лапы, он, мурлыкая, баюкал сон парнишки…