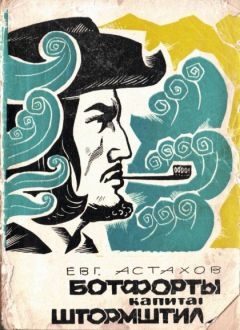— Давай на все! — кричал Серапион, хлопая по прилавку ладонью. — Слушай ты, глухой-немой, на все давай! Аба!..
Обыграв Серапиона и допив вино, красильщики собрались уходить. Технолог долго возился с железной шторой— навешивал тяжелые замки. Бобоська не стал ждать, пошел по вечерней улице, засунув руки в карманы брюк.
Люди сидели на балконах, из открытых окон слышался говор, женский смех, треньканье мандолины.
«Заместо отца тебе буду...» — вспомнил Бобоська слова Серапиона. — Ишь ты какой!.. «Заместо отца...»
Он хорошо помнил своего отца — невысокого, загорелого человека в тщательно отутюженных брюках-клеш, в фуражке с золотым крабом. Возвращаясь из плавания, отец привозил чудные розовые раковины с морским шорохом внутри, толстые плитки шоколада, цветные открытки с видами далеких заокеанских городов. Он нажимал на Бобоськин нос твердым пальцем и говорил:
— Ну, как дела на берегу?
От пальца пахло табаком. Курил отец обычно кейпстон, и пряный запах этого табака надолго поселялся в комнатах. Отец уходил в плавание, а запах жил в подушках, в занавесках, в полотенце. И казалось, что отец еще дома и Бобоська снова услышит утром его веселый голос:
— Эй, на полубаке! Свистать всех к завтраку!..
«Заместо отца тебе буду», — снова вспомнил Бобоська.— Чего захотел, черт костлявый...
На углу его догнал глухонемой. Вынул из кармана оранжевую круглую коробку с черной кошкой на этикетке. Покрутил ее в руках, потом оттопырил большой палец: мировая, мол, вещь, бери.
— Не надо. — замотал головой Бобоська. — Солить я их буду, что ли? Больше не надо...
Глухонеыой спрятал коробку в карман и, мрачно глянув на Бобоську, свернул в переулок.
Рыбак шел по улице, стуча тяжелыми кожаными бахилами. На нем были штаны из брезента, такая же куртка и клеенчатая зюйдвестка. Он широко шагал, посматривая по сторонам и дымя самокруткой. В руке рыбак нес громадного морского петуха — эту самую удивительную из всех рыб, которых когда-либо приходилось видеть Тошке. Передние плавники петуха, каждый с Тошкину кепку, топорщились словно крылья. Они были ярко окрашены во все цвета радуги. Сужающееся к хвосту тело поблескивало в лучах солнца, вздрагивало и переливалось синим и золотым. Хвост петуха чиркал по асфальту, оставляя на нем темные мокрые полоски. Прохожие оборачивались, смотрели на морское чудо.
— Эх, и красавец!..
— Почем хочешь за него?
— Пятьдесят рублей, — отвечал рыбак.
— Дорого.
— Иди поймай такого. В нем три кило чистого мяса и еще пуд красоты.
— Поди, уже попахивает от этой красоты.
— Да он еще живой! — Возмущенный рыбак поднес петуха к самому носу сомневающегося прохожего. Рыба из последних сил дернулась и угодила тому хвостом по уху.
— Ну как, попахивает? — смеялись вокруг.
— Что он тебе шепнул на ухо, приятель?
— Почему ты не дал ему сдачи?
Рыбак пошел дальше. Петух, выпучив большие стеклянные глаза, смотрел в лазурное, совсем как его чешуя, небо.
— Отдайте мне за сорок, — сказал Тошка, догоняя рыбака.
— За сорок? — удивился тот. — А откуда у тебя деньги, пацан?
— Я накопил.
— Хм! — рыбак с сомнением поглядел на Тошку. — А пятьдесят ты не накопил?
— Нет.
Рыбак еще раз оглядел покупателя с головы до ног.
— Неохота мне до базара тащиться. Жарко. Ладно, гони сорок и забирай петуха. Даром отдаю.
— Пойдемте. Я живу в этом доме. Я быстро. А вы пока в беседке посидите. Там прохладно.
— Давай пулей. Некогда мне...
Минуты через две Тошка снова стоял перед рыбаком, сжимая в кулаке свернутые трубочкой десятирублевки. Тот пересчитал деньги и небрежно бросил петуха в подставленное Тошкой ведро.
— Матери скажи, чтобы жарила на ореховом масле. Вкуснее будет...
Тошка прикрыл петуха газетой и побежал через дворы, напрямик к порту. Спустившись к устою пирса, он зачерпнул воды и поставил ведро в тень. Петух отходил долго. Вначале он только шевелил выпуклыми жаберными крышками, потом расправил свои цветастые крылья и наконец повернулся всем телом, устраиваясь поудобнее в узком ведре...
Десятого августа жена капитана Борисова, как и обычно, в восемь утра вышла на лестницу. Она спешила в редакцию. У самых дверей ее квартиры стояло жестяное ведро, прикрытое фанеркой. Сверху была положена оранжевая круглая коробка с изогнутой черной кошкой на этикетке. По коробкой белела записка. Кто-то неизвестный написал крупными печатными буквами, видимо, стараясь скрыть очерк:
«Поздравляем с годовщиной известного вам события на борту парохода «Колхида». Примите наши скромные подарки. Все будет в порядке. Неизвестные вам друзья.
Т. и Б.»
Прошло несколько дней. Тошка по-прежнему ходил в Старую гавань ловить ставридку. Но без Бобоськи там было как-то непривычно и грустно.
— Где твои кореш? — спрашивал его боцман Ерго.
— Работает он. Где и раньше, у Серапиона...
Ерго качал курчавой головой. Култышка его сердито хрустела по гальке.
— Плохой человек этот Серапион. Лучше бы парень пошел куда-нибудь на буксир, в юнги или в камбузе помогать.
— Он пошел бы, да не берут. До шестнадцати лет не разрешается. Года не хватает.
— Плохо это, олан, плохо. Серапион даром кусок хлеба не даст, хорошему делу тоже не научит. Потому что сам не знает.
Тошка одиноко сидел на стальной перекладине каркаса и, прищурив глаза, следил, как вьются около крючка стремительные ставридки. Тонкая леска подрагивала на его полусогнутом указательном пальце. Было скучно и жарко. Б ман Ерго, припадая на култышку, бегал по берегу и ругался с газорезчиками. Прикрыв глаза очками, они небрежно кромсали борт большого неуклюжего танкера и даже не огрызались. Тошка смотал удочку, спрятал ее в щель меж двумя сваями и, выбравшись из-под навеса, направился к воротам Старой гавани...
Он застал Бобоську, когда тот перевязывал шпагатом большой сверток. Сушеный Логарифм стоял рядом и что-то скрипел себе под нос.
— Сейчас! — крикнул Бобоська из подернутой паром полутьмы красильни. — Я быстро.
Они пошли по разморенной от жары улице. Камфорные деревья пахли аптекой. На газонах горели огнем канны.
— Отнесем заказчику сверток и пойдем закусим,— предложил Бобоська. — Ты обедал?
— Нет еще.
— Тогда пошли на базар. Пойдешь? Пенерли* закажем.
Они сдали под расписку два перекрашенных платья и, впрыгнув в автобус, вернулись на Турецкий базар.
В закусочной было прохладно и пусто. На веранде под тентом стояли столики, покрытые клеенкой. За одним из них, уронив голову на скрещенные руки, спал глухонемой.
— Опять насосался, — сказал Бобоська. — Только и делает, что пьет да спит. И за что его Серапион в мастерской держит?
Глухонемой поднял голову, словно услышал Бобоськины слова. Лицо у него было красное и мятое. На голых до локтя руках синела татуировка: кресты на могилах, похожий на байдарку гроб с сидящей в нем женщиной, ползущая по кинжалу змея. И еще сердце, пылающее огнем за толстой тюремной решеткой. Из сердца вырывались языки пламени и, по правде сказать, оно больше смахивало на редиску с пучком ботвы.
Глухонемой посмотрел на Бобоську исподлобья, что-то угрожающе промычал и, пошатываясь, спустился с веранды. Он шел боком, словно краб.
— Отчего он глухонемой? — спросил Тошка.
— Скорпион говорит — от контузии. Под бомбежку попал в Керчи.
— Страхолютый он какой-то.
— Живоглот, — подтвердил Бобоська.
К столику подошел усатый официант в пестрой от пятен полотняной куртке.
— Что будем кушать, что будем пить? — осведомился он грустным басом.
— Дай нам, Сандро, два пенерли и бутылку «изабеллы», — с независимым видом ответил Бобоська. — И еще сыру.
— Пожалуйста, молодой человек! ..
Официант вытер клеенку рукавом своей куртки, поставил на стол два граненых стакана, солонку и тарелку с нарезанным лавашом. Потом он ушел, покручивая торчащие в стороны усы.
— Ты заказал вино? — шепотом спросил Тошка.
— Ага, «изабеллу». Она сладкая.
— А если увидят
— Кто увидит?
— Ну, директор школы.
— Директор школы тебя еще не знает. Он только чиркнул на бумажке: «Принять Тополькова с первого сентября в седьмой класс». А какой из себя этот Топольков, твой директор и понятия не имеет.
— А вдруг соседи или папины знакомые? Вино ведь.
— Да ладно тебе! Заладил: увидят, увидят. Оно слабое совсем, как пиво. И потом ты ведь со мной, не один,
Тошка глянул на друга. Тот сидел, положив локти на спинку стула, зажав в уголке рта дымящуюся папиросу.
Бобоська казался совсем взрослым в своей накинутой на плечи кожаной тужурке и брюках-клеш.
Снова появился официант, принес шипящие пенерли, тарелку с сыром и темную запотевшую бутылку.
— Самый горячий и самый холодный, — сказал он, ставя все на стол. — Тридцать шесть рублей. Кушайте на