Павлушка… он не стал трогать снежинку, а вместо этого медленно взял Соню за озябшие пальцы. Она посмотрела серьезно и пальцы не отняла. Так потом они и шли обратно, держась за руки, – туренская девочка Сонюшка Лукова и мальчик Поль из неведомо каких дальних краев.
И с той поры повелось: «Г’ри-ша, я пойду к Со-нюшка? К Со-нюшке? По-иг-рать…»
– Иди, конечно, – говорил Гриша. Даже с облегчением. Нет, Павлушка ничуть не надоедал ему, и дружба оставалась крепкой, и хорошо им было вместе. Но… нельзя же, в конце концов, чтобы Павлушка навсегда оставался не столько самим собой, сколько частичкой Гриши.
Тем более что у Гриши проявилось немало дел. В гимназию в этом году он уже не успел (И хорошо! Можно еще год быть рядом с Павлушкой постоянно, не ехать в Тобольск!), но учиться-то необходимо. Вот и пришлось заниматься самостоятельно – то со старшими девочками, то одному. Чтобы на будущий год пойти не в первый класс, а куда постарше…
Павлушка тоже учился. Вместе с Танюшкой и Катенькой. Письму, чтению, счету. Наняли еще и учительницу, знающую французский – для всех. И для того, чтобы Павлушка не забывал язык…
Зимой Павлушку окрестили в православную веру. Записали под фамилией Григорьев (Гриша настоял). А крестными стали соседи – Кондрат Алексеевич Луков и его жена Степанида Макаровна. Так вот получилось… У Максаровых, с Гришей, было Павлушке очень даже неплохо. Дружил со всеми девочками – спокойный, улыбчивый, необидчивый. Но они, даже самые маленькие, смотрели на него, как на младшего. Порой – почти как на куклу, которой нужна их постоянная забота. А Сонюшка Лукова… конопатая, некрасивая, порой насупленная – она была такая, что всегда принимала Павлушку всерьез, понимала его, даже если тот не мог найти нужное слово. Понимала не хуже Гриши. Но Гриша был старший, а она такая же, как Павлушка… Он при ней угольком нарисовал на куске мятой бумаги рожу Матубы, и они вдвоем разорвали эту бумагу и пустили по ветру с берега лога. На веки вечные…
А еще… не помнил он матери, жил в Бас-Тере и разных поселках у случайных людей, нигде не задерживаясь надолго. Даже слово «мама» не знал. А тетя Стеша Лукова однажды увидела его перемазанные углем руки (опять рисовал что-то для Сони), повела к рукомойнику, отмыла пальцы, а заодно и лицо, вытерла насухо суровым полотенцем… и вдруг прижала кудлатую голову к цветастому переднику.
– Цыганенок ты мой толстогубый, сиротинушка…
Он не понял слово «сиротинушка» и ничего сиротского не ощутил. Наоборот… Он прижался к тете Стеше, почуяв неведомое раньше желание сыновней привязанности, ласки, защищенности…
А на цыганенка он в общем-то и не был похож. Волосы вовсе не черные, а темно-русые, с рыжеватым отблеском. И глаза светлые – карие с желтыми проблесками («Как у Анны», – вспоминал Гриша). Это раньше он казался смуглым и чернявым, а сейчас – отмытый, ухоженный, не раз извалявшийся в белом пушистом снегу, – потерял последние признаки негритянской крови. Только губы по-прежнему оставались… ну, вроде как у Роситы Линды… И не стали мальчишки прозывать его Цыганенком, как того опасался Гриша. Появилось у Павлушки прозвище Ножик.
С ножиком, который отдал ему Гриша, – тоненьким, острым – Павлушка не расставался. Выреза́л из попавших под руку деревяшек то смешного котенка, то хохлатую пичугу, то куколку в платке, то неведомую зверюшку. Всем вырезал, кто ни попросит… Случалось несколько раз, что городищенские, вечные неприятели ляминских, брали зазевавшегося Ножика в плен, утаскивали через лог, но не думали обижать, а, обступив, просили:
– Ножик, вырежи чего-нибудь!
– Солдата с ружьем…
– А мне Змея-горыныча!
Резал, присев на чурбак в чьем-нибудь «ненашем» дворе. И забывалась вражда между берегами…
Как-то перед Рождеством, накатавшись с Сонюшкой на санках в логу, Павлушка забежал к Луковым и засиделся там за вечерним чаем. А потом забоялся:
– Полина Фед-доровна рас-сердится…
Оно и понятно: должна была прийти в тот вечер «французская» учительница, а главный ученик неизвестно где. Чтобы сильно не бранили, Кондрат Алексеевич пошел с Павлушкой к Максаровым. Полина Федоровна (округлившаяся, в кофте-колоколе) сказала голосом светской дамы:
– Ты что же, мон шер, гуляешь до ночи, тогда как… Ох, здравствуйте, Кондрат Алексеевич, милости просим… Платоша! У нас гость!.. – А Павлушке погрозила пальцем (тот виновато посопел для порядка; так же для порядка показал ему кулак «Г’ри-ша»).
– Полина Федоровна, ты мальчонку шибко не ругай, – попросил «дядя Луков». – В эти годы только и порезвиться. А вообще-то он парнишка башковитый… Платон, доброго здоровья. Разговор есть к тебе…
Ушли в другую комнату, и Кондрат – давний сосед и приятель с детской поры – сказал Платону Филипповичу:
– Про Павлушку я. Вы не серчайте, что он часто стал у нас в доме крутиться. И с Сонюшкой подружились, и Стеша его то и дело возьмет да приголубит… а главное – нашел он свою жилку. Приглядывается к моей работе, помочь норовит. Пальцы его к дереву просто чудо какие чуткие. И тяга в душе. Ты его к торговому делу не приохочивай, пускай идет в резчики. Вырастет – меня за пояс заткнет, это я тебе говорю со всей твердостью…
– А я чего… – Максаров поскреб бороду. – Я и не думал неволить. Пускай выбирает в жизни чего душа просит…
– А ежели так, то, может быть, отпустишь жить ко мне? Было бы ему сподручнее учиться мастерству…
– Здесь опять же ему решать, – рассудил Максаров. – Они с Гришуней-то неразлейвода…
И тут-то и родилась у Платона Федоровича мысль: чтобы стали Луковы Павлушкиными крестными.
– Если Полина (дай Господи) разрешится благополучно, в один день и окрестим – новорожденного и отрока Павла.
Так и случилось вскоре…
Павлушка не переселился к Луковым насовсем. Но случалось так, что жил там подолгу. В общем, оказалось, будто у него сразу два дома. Ну и ладно, чего делить-то! Лишь бы всем было спокойно на душе…
Весною, кроме множества всяких дел, озаботился Платон Филиппович еще одним. Каменные плиты на Затуренском кладбище стали старыми, с трещинами и лишаями, несолидно как-то. И заказал Максаров новые, чугунные, в мастерских судостроительного завода. Гриша, когда узнал об этом, попросил:
– Дядичка Платон, можно еще одну?
– Господь с тобой, это для кого? – испугался Максаров.
– Для Агейки Полынова. Помнишь?… Ему дядя Кондрат крест сделал, да ведь это надолго ли? Деревянный… Агейка дружок был наш…
Грише хотелось добавить, что раз уж не суждена была Агейке долгая жизнь, то пусть хотя бы память останется на многие годы. Но сказать такое не смог, запершило в горле.
Платон Филиппович, живший тогда в постоянном опасении за родившегося недавно Илюшку, чувствовал, что не следует сердить судьбу, обижая хоть кого-то из мальчиков. Пускай и таких, которые не с нами, а «над нами» (царство им небесное). А еще одна плита – трудное ли дело…
Плиту положили на Агейкин холмик в начале июня. Крест оставили на прежнем месте. Раковина с острова Флореш лежала на прежнем месте. Гриша не решился поднять ее и послушать океанский прибой. Она была теперь полностью Агейкина, не надо трогать…
На плите были выпуклые буквы:
Отрокъ Аггей Полыновъ
Скончался 18 iюня 1854 года
восьми лhтъ отъ роду
Господь да пригрhетъ его добрую душу
В общем, как полагается. Но ниже, под похожей на снежинку звездочкой, было написано еще:
Агейка, мы тебя помним
Это Гриша настоял. Впрочем, никто и не спорил…
От кладбища пошли пешком, хотя могли бы вернуться на телеге. Зачем трястись, когда такое тепло и солнце. Было их пятеро: Гриша, Павлушка, Соня, Илюшка Маков, Оля… За воротами тянулся луг, по нему разбегались тропинки – к городу, к реке, к ближним деревням. Тропинки были узкие, ребята шли по траве, путаясь ногами в стеблях и листьях. Все мальчишки – босые. Павлушка зацепил голой лодыжкой крапиву.
– У, контажьён пикур…
«Зараза кусачая», – понял Гриша. А Соня, конечно, не поняла, но ощутила Павлушкину сердитость. И утешила:
– Зато красивая. Глянь…
В самом деле, длинный стебель крапивы был обвит другим стеблем – очень тонким, усыпанным крохотными розовыми колокольчиками.
– Повилика, – сказала Оля.
Павлушка перестал тереть ногу, весело удивился:
– По-вилика?!
– Да! – подтвердил Гриша и переглянулся с Павлушкой: мол, мы-то знаем, с чем и с кем это слово связано…
Павлушка оторвал кусочек стебля с несколькими цветами-малютками и понес перед собой на ладони.
…Туренские дома с деревянной резьбой были знамениты на всю страну. До сих пор и в России, и за границей выходят альбомы и научные труды про это редкое искусство. С фотографиями наличников, карнизов, подоконных досок, крылечек с узорчатыми кронштейнами и столбиками. Это детали старых домов – иногда еще сохранившихся, а чаще – исчезнувших, стертых временем и каменной архитектурой. Еще меньше, чем домов, сохранилось имен мастеров-резчиков. Они для жителей были кто? Художники разве? Так, вроде плотников… Но красота их работ от этого не становилась меньше…


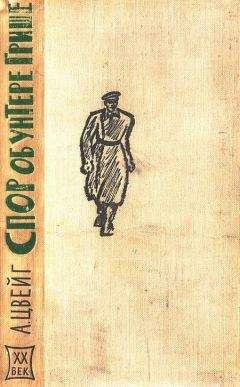
![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
