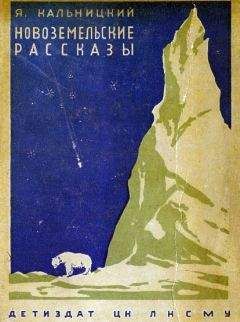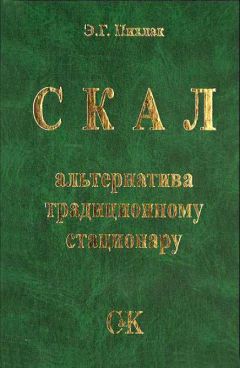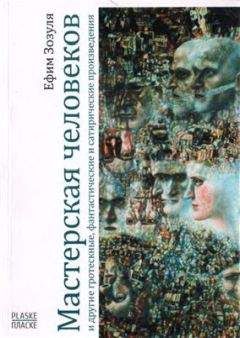— Тогда садитесь! — скомандовал летчик. — Виктор, собак подай и ремнями привяжи, а то парашютов для них не напасли...
— Лети! Лети, старик! — сказал Виктор, помогая Ефиму усесться. Затем он подал ему собак, привязал их ремнями. — Ну, поехали, что ли! — и закурил папиросу.
Ефим наклонился к нему, обнял и крепко поцеловал в губы.
— Спасибо! Век не забуду! Эх ...
Самолет скользнул по льдине и понесся над черной водой.
Опять вместе
В бревенчатом домике на берегу Безымянной губы гостит экспедиция с Матшара. Николай и Вячеслав больше похожи на санитаров, чем на гостей. Они варят обед, колют дрова, носят воду, топят печь. Николай сам готовит лекарства и поит ими Марью и Саньку.
Санька уже сидит без посторонней помощи. Лицо его как будто меньше стало, скулы торчат, глаза ввалились. Он молчит и в тревоге по отцу беспрестанно морщит свой бледный лоб.
Марья иногда пытается встать. Неверными шагами направляется она к плите, пробует заняться своими хозяйскими обязанностями, но, несмотря на все ее просьбы, гости не дают ей ничего делать.
— Погулять, пожалуйста, даже на воздух не мешает выйти, на солнышко... А вот работать — извините! Работать мы не позволим!
Как и Санька, Марья мучается тревогой по мужу. Гости понимают состояние Марьи и Саньки, и Вячеслав или Николай, а то и оба вместе, то и дело принимаются успокаивать своих пациентов:
— Не волнуйтесь понапрасну! С „Красина“ самолет выслали... Непременно найдут хозяина вашего...
— Куда ему деваться? — добавлял Вячеслав. — Плывет себе как князь на льдине, а орлы наши его сверху заприметят, — раз! — подняли и готово, вот он, ваш Ефим Бусыгин, радуйтесь себе на здоровье сколько влезет!
Санькиным наблюдательным пунктом на луде теперь пользовался Вячеслав. Всякую свободную минуту он взбирался на нее и с помощью подзорной трубы обшаривал весь горизонт. И вот однажды он увидел над горизонтом дымок. Вскоре можно было различить две мачты, две высоченные трубы „Красина“. Он влетел в дом и закричал:
— Пляшите! Живо мне плясать! Уррра! „Красин“ идет! Красин»!
Марья покраснела. Рот ее искривился. Нельзя было понять, собирается ли она плакать или смеяться...
Она быстро оделась и выбежала вслед за Николаем. На горизонте красовался стройным корпусом Краснознаменный ледокол. Не выдержали нервы, Марья разрыдалась:
— Ох, муженек, друг ты мой горемычный! На кого ж ты покинул нас, сирот беспризорных! Ох, Ефимушка! — Так причитала она, не веря в спасение Ефима. Именно теперь, когда все так хорошо кончилось, овладело ею горе. Чего бы им недоставало, если бы и Ефима спасли?! А так, на что им жизнь?!
Воспользовавшись тем, что все заняты, Санька тихонечко сполз с кровати, оделся и вышел на берег. Он стоял подле матери, а та не замечала его. Николай и Вячеслав уже запрягли лучших своих собак в сани и помчались по льду залива навстречу ледоколу.
«Красин» меж тем был уже на середине залива. Его бархатный бодрый гуд разнесся далеко по окрестностям. Какая-то машина повисла на стреле лебедки над бортом и опустилась на снег. Потом спустили трап. На лед сошли люди, сели в машину... И вот уже летит эта странная машина к берегу, одолевая торосы, прыгая через трещины. Аэроплан — не аэроплан, автомобиль... И на автомобиль непохоже. Вот встретились Вячеслав и Николай с этой машиной. Остановились на минутку. Потом собаки поволокли их дальше, к ледоколу, а машина, громко жужжа и фыркая, снова несется к берегу.
Стоит Марья на берегу и непонимающими глазами смотрит то на ледокол, то на машину, ныряющую среди торосов и быстро-быстро приближающуюся. А Санька дергает ее за подол:
— Мама, «Красин» это? Это «Красин»?
Диковинная машина растет на глазах. Вот она уже у берега. Перепрыгнула через полынью, с разгону вылезла на скалистое возвышение и остановилась прямо возле Марьи. Открывается сбоку дверца. Какие-то косматые звери вырываются из машины и кидаются на Саньку. Санька валится в снег и машет руками, отбиваясь от нападения. И вдруг он громко хохочет:
— Да ведь это Лорд, Еремка! Мама, глянь!
Но мать не слышит. Она кидается с протянутыми руками кому-то навстречу и повисает у Ефима на груди. Ефим обнимает ее, гладит и приговаривает:
— Ничего... Ничего...
Потом он берет Саньку на руки, подымает его над головой...
— Эх, и отощал же ты, сынаш! Легкий, как перышко... Ну, ничего, выкормим!
Потом все они — и Ефим, и летчики, спасшие его, и водитель аэросаней, на которых приехал Ефим, и Марья, и Санька, и псы — все идут в дом, и Марья — откуда силы взялись! — потчует дорогих гостей, спасителей. А Ефим, раздевшись, не без гордости рассказывает:
— Да что там бедствие? Бедствие — дело второе! А вот скажи, Марья, какое нам, промышленникам, уважение от нашей советской власти! На самолете летал, на «Красине» ванну принимал, а домой на аэросанях прикатил... Что далеко было — близким стало...
Он крепко пожал руки летчикам:
— Сила наша великая!
Нюшка получает медвежонка
Огонек лампы слабо освещал большую комнату. В углах чернели тени. В печи гудело пламя, и багровые отсветы падали на пол.
Мать месила тесто. Она часто останавливалась, задумчиво глядела на темные стены, на закопченный потолок, качала потом головой, вздыхала и снова принималась за работу.
А Нюшке скучно. Не с кем слово вымолвить. Братишки — Вася и Петунька с последним пароходом уехали в школу. Там и живут, в Белушьей губе, за триста километров от дома.
Девочка блуждает по комнате, как сонная муха. То вздремнет, то куклой займется... А в голове столько мыслей, столько вопросов. Спросить — боится. Отец второй день как уехал по капканам, погода разыгралась, мать задумывается, вздыхает... Нельзя спрашивать, — заругает. Не раз уж попадало Нюшке за неуместные вопросы:
— Мам, а почему лампа горячая?
— Горит, оттого и горячая.
— А почему горит и оттого горячая?
— Керосин в ней, потому и горит...
— А почему керосин?
— Вот привязалась! — ругалась мать. — Не твое дело! Вырастешь, узнаешь.
А сейчас вот ветер: ходит вокруг избы, как живой. Ходит и в стены стучит: «By-у-у-у... Раз-не-с-су...»
— Мам, а ветер где живет? — не сдержалась девочка. На этот раз мать не рассердилась:
— Ох, живет ветер, живет... Отца все нет... Где-то он бедствует в такую пору?
Ответ не удовлетворяет Нюшку. Но она чувствует, что мать встревожена и не пристает с вопросами.
Таня — хорошая кукла. Веселая, румяная, добрая. Только не живая. И нос отбит. А из ног опилки сыплются. Болтаются ноги, как тряпочки. Нюшка зашила бы, да не знает: может больно кукле, если иглой шить?
И опять не смеет спросить у матери, больно кукле или нет?
Нюшка вздыхает и садится к столу. Окруженная световыми кругами, важно светит лампа. А огонек маленький, дрожащий, еле дышит. Но если его потушить, всюду станет темно...
— Мам...
— Что, дочка?
— Ничего... так...
— А ветер-то, ветер... — шепчет мать и снова принимается за работу.
И вдруг, сквозь грохот и вой непогоды, доносится собачий лай. Кто-то возится за стеной...
Девочка вскакивает, прыгает, хлопает в ладоши:
— Папанька приехал! Папанька, папанька...
Мать бледнеет, вдруг лицо ее становится красным. Она вытирает передником руки и бежит в сени. За стеной — радостные голоса. Нюшка чувствует себя именинницей: ведь это она первая услышала, что отец вернулся.
Отец входит, окруженный облаком пара, и улыбается. Девочка кидается к нему, и взлетает к потолку, потом прижимается лицом к его колючей щеке.
— Ну, — говорит отец, — теперь уж ты скоро совсем большая. Два дня не видал, а ты вон как выросла.
Нюшка гладит волосы отца и вдруг совершенно серьезно спрашивает:
— А отчего у тебя, папаня, дым с головы?
— Дым? Где? — Отец смотрится в маленькое зеркальце на комоде. — А и впрямь... Упрел, дочка, оттого и дым... Пар это, пар. На дворе мороз, а в доме жарко. Значит — пар. Понимаешь?
Нюшка ничего не понимает. Она хочет еще спросить, но отец вдруг заявляет:
— А я тебе товарища привез. Не будешь теперь киснуть одна...
Дыхание захватило. Трудно слово вымолвить. Товарища! Где же он? Почему на морозе остался? Уж не шутит ли отец?
А он сбегал в сени и вернулся с чем-то пушистым и белым, белым... — Медвежонок! Неужели живой?
Черные глаза, черный нос. Они тремя точками сошлись на его мордочке. В остальном звереныш, как снег.
— Беленький, беленький... — шепчет Нюшка, протягивая к нему руки. — У, ты, Беличка мой... Белинька...
Отец бережно передает ей медвежонка. Она чувствует его тепло. Пушистая шерстка щекочет ей шею. Он тихонечко поскуливает и облизывается. Тем временем мать вносит большую грязновато-белую шкуру. Тяжело дышит и жалуется:
— Ну и зверь же был. Недаром сердце мое тревожилось. Гляди-ко с каким страховищем встретился. Неровен час... Матка ведь.