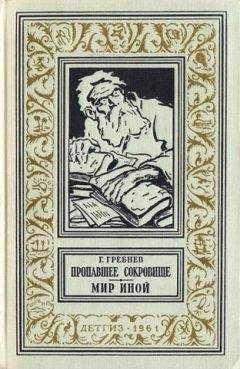— Расскажи ещё, — пробормотала Исанна в полусне. |
— Купец Лайт так богат…
— Как мистер Хэнкок, да?
— Не совсем, но почти. Он так богат, что серебро и золото для него всё равно что мусор.
— Как! Значит, миссис Лайт, когда она подметает у себя в особняке, собирает в совок серебро и золото?
— Глупенькая, будет тебе миссис Лайт подметать! Знаешь, у неё руки какие? И, во-первых, она умерла, а во-вторых, когда была жива, то только щёлкнет пальцами, так и сбежится к ней прислуга — в крахмальных шапочках, с оборками. Сделают ей реверанс и пропищат: «Да, мэм», «Нет, мэм», «Если угодно, мэм». А миссис Лайт им скажет: «Ах вы, неряхи такие! А ну-ка, загляните под кровать — вон сколько золотой пыли скопилось! А зеркало! Я могу своим пальчиком расписаться на нём, — столько там серебряной пыли! Несите скорей тряпки и щётки, кривоногие, косые, болтливые вы макаки!»
— А брильянты?
— Для брильянтов нужна метла.
— Ах, Джонни! Ну расскажи же ещё!
— Однажды кто-то обронил рубины, а кухарка (славная такая женщина, я её видел) подумала на них, что это красная смородина. Запекла их в пирог, а купец Лайт сломал передний зуб о рубин.
— Это правда, Джонни?
— Во всяком случае, правда то, что у купца Лайта сломан передний зуб. Я как-то смотрел на него и заметил.
— А ты часто ходишь его смотреть?
— Ты понимаешь, — в голосе его слышалось недовольство собой, — эта штука сильнее меня. Я всё собираюсь перестать думать о нём.
— А с жемчугом что они делают? — пробормотала Исанна.
— Жемчуг они пьют.
— Как?
— А вот как одна египетская королева — мне мама рассказывала… когда была жива. Она клала жемчуг в уксус и пила его — просто так, для форсу. Лавиния Лайт тоже вечно форсит.
Исанна спала.
— Ты никогда не говоришь о своей маме, Джонни. Ведь ты пришёл к нам через месяц после её смерти. Ты ничего о ней не рассказывал. Это потому, что ты её так любил или наоборот, потому что ты её не любил совсем?
Долгое молчание.
— Любил, — выговорил он наконец. — Мы жили в Тáунсенде, Мейн. Она зарабатывала на жизнь шитьём. Но, когда она поняла, что скоро умрёт — а у неё смерть была внутри и она это знала, — она захотела, чтобы я выучился какому-нибудь хорошему ремеслу, а я ни о чём, кроме серебра, и думать не хотел. Вот почему мы и приехали сюда, в Бостон, — чтобы найти хорошего учителя. Она ещё могла шить, только кашляла очень. Даже когда она была так слаба, что иголка не держалась у неё в руке, она всё продолжала учить меня читать и писать и всему такому. Она во что бы то ни стало хотела, чтобы я вырос образованным, а не так, как Дав и Дасти. Она хотела, чтобы я человеком стал.
— Поэтому ты так стараешься?
— Да, поэтому. Миссис Лепэм обещала маме, что твой дед возьмёт меня к себе, как только она умрёт. Мама умерла, он взял меня к себе. Вот и всё.
— Как её звали? И как это она, простая швея, была такая учёная?
— В этих краях она называлась просто миссис Тремейн, в девичестве же она звалась Лавиния Лайт. Она из благородной семьи.
— Совсем как дочь мистера Лайта?
— Ну да. Она мне как-то говорила, что имена «Джонатан» и «Лавиния» имеются в каждом поколении Лайтов на протяжении последнего столетия.
— Джонни, а она не захотела пойти к этим богатым родственникам и сказать им: «Вот она — я»?
— Нет. И мне не велела. Только… только если я когда-нибудь окажусь в безвыходном положении. Она сказала так: «Джонни, если у тебя ничего-ничего не останется, и у тебя не будет ни ремесла, ни здоровья, и сам господь бог отвернёт от тебя лицо своё, вот тогда ступай к купцу Лайту и покажи ему чашку и передай ему, что, умирая, твоя мать объявила тебе, что ты приходишься им роднёй. Он признает родство и, может быть, сжалится и поможет тебе».
— Что за чашка такая?
— Она говорила, чтобы я ни за что её не продавал. Пусть я буду голодать и мёрзнуть, всё равно.
— Где же твоя чашка?
— На чердаке, в моём сундуке. Потому-то я и запираю его.
— А мне ты её когда-нибудь покажешь?
— Если ты поклянёшься утехами рая и муками ада никогда никому ничего не рассказывать. Не говори никому моё настоящее имя и то, что у меня есть чашка.
— А как же Исанна?
— Если она что и слышала, то решит, что всё это сказка, придуманная мной, как рубины в пироге.
Близился рассвет. Где-то далеко пропел петух. Другой, поближе, ответил. С моря потянул предрассветный ветерок, и ночь из чёрной сделалась серой. Цилла встала, поёживаясь. Джонни взял Исанну на руки.
Он сдержал обещание, данное Цилле, и, уложив малышку в постель, проскользнул к себе на чердак, отпер сундук и побежал вниз с серебряной чашкой в фланелевом мешочке, сшитом его матерью. Он открыл дверь из мастерской на улицу. В доме было по-прежнему темно, а на дворе становилось светлей с каждой минутой.
Чайки в поисках пищи покидали свои острова.
Цилла вышла к нему, и он знаком поманил её за собой на улицу, в предрассветные сумерки. Он вынул чашку из мешка.
Когда Джонни был совсем маленьким, ему казалось, что это самая красивая вещь на свете. Из-за неё-то и захотел он учиться у серебряных дел мастера. Теперь он уже смотрел на эту чашку более профессиональным взглядом. Она казалась ему слишком приплюснутой. На одной из её граней был изображён герб Лайтов — глаз, восходящий из-за моря. От глаза расходились лучи-ресницы, которые покрывали чуть ли не половину поверхности чашки. Эта эмблема красовалась на всём, что принадлежало купцу Лайту. Её можно было видеть над дверью его конторы на Долгой пристани, на столовом серебре, даже на ошейниках и на сбруе. Даже на кожаных перчатках мисс Лавинии. И Джонни знал, что эта же эмблема высечена на могильных камнях, под которыми покоились умершие Лайты, на Коппсхилле.
— Точно такой же! — изумилась Цилла.
— И тот же девиз, смотри!
Робко, по складам, она прочла: «Да будет Лайт!»[6]
И, словно чудом, не успела она выговорить эти слова, как появился свет, ибо солнце вынырнуло из моря.
Дети стояли, глядя друг на друга. У девочки на лице было написано волнение — и усталость. Это было милое остренькое личико; глаза немного светлее, чем у Исанны, а волосы чуть потемнее.
Джонни прошептал:
— Совсем как солнце, встающее из-за моря, и расходящиеся от него лучи.
Цилла — ей, верно, показалось, что Джонни опять начинает слишком много о себе думать, — ответила:
— Откуда ты знаешь, что это восходящий глаз? Может быть, он заходит?
За всю ночь это была первая обидная реплика.
— Нет, нет! Мама сказала мне, что это восходящее око. Но я должен об этом помалкивать — покуда господь бог не отвернёт от меня лица своего. Смотри же, Цилла…! ты обещала, поклялась…
— …утехами рая и муками ада.
II. В гордыне сердца твоего
Неделя была на исходе. Жара не спадала, ибо стоял июль месяц. Каждый день после обеда мистер Лепэм погружался в долгий сон, накрывшись, по обыкновению, корзинкой и деликатно похрапывая. Джонни давал хозяину поспать час, затем будил, бранил его и усаживал за работу. С заказом мистер Лепэм справлялся прекрасно. Покончив с отливкой корпуса сахарницы, он принялся наносить на неё пышную гирлянду из плодов. Видно, он не утратил своего былого мастерства.
Зато своей работой Джонни был доволен меньше. В восковой модели он в увеличенном виде точно воспроизвёл ручку молочника. Миссис Лепэм, девочки и даже сам мистер Лепэм сказали, что ручка хороша и что её можно отливать в серебре. Один Джонни не был доволен.
В пятницу к вечеру, когда стало смеркаться и работа была окончена, Джонни взял серебряный кувшинчик; и свою восковую модель и вышел из мастерской. Через минуту он был уже на Рыбной, у дверей серебряных дел мастера Поля Ревира. Постучаться он не осмеливался и решил ждать; он знал, что мастер скоро должен выйти, запереть лавку и направиться к себе домой на Северную площадь. Это был преуспевающий мастер, и он мог себе позволить работать в одном месте, а жить в другом. Вот наконец он и вышел, мистер Ревир, коренастый, румяный мужчина с красивыми тёмными глазами. Он закрыл за собой дверь и начал было запирать её на ключ.
— Добрый вечер, мистер Ревир.
В ответ сверкнула быстрая улыбка. У этого человека всё было быстрое — улыбка, взгляд, движения.
— Добрый вечер, Джонни Тремейн.
Мальчик давно преклонялся перед Ревиром, первым мастером в Бостоне, и удивился, что тот знает его по имени. Джонни и не подозревал, что бостонские мастера давно уже приглядываются к нему.
— Мистер Ревир, мне нужно с вами поговорить.
— Как мужчина с мужчиной, — тотчас согласился мистер Ревир, открывая дверь в мастерскую и жестом приглашая Джонни следовать за собой.