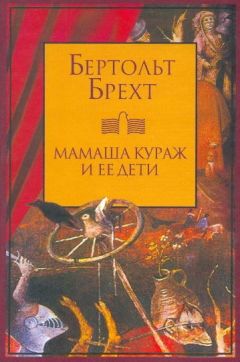Впереди, между голов шофера и сидевшего с ним рядом Отто, текла навстречу серая широкая лента шоссе. У горизонта она мокро блестела и переливалась, словно там прошел дождь.
Машину иногда встряхивало на неприметных ухабах. Павла подбрасывало чуть не до крыши, какое-то мгновение он чувствовал себя беспомощно висящим в воздухе, и от этого в желудке становилось пусто. Но тотчас тело вжимало обратно в мягкое кожаное сиденье. Пахло кожей, незнакомыми духами, дорогим табаком. Горячий ветер никак не мог выдуть этот чужой запах.
Рядом, закрыв глаза, покачивался на сиденье доктор Доппель, в светло-сером костюме с чуть приподнятыми плечами, в белой рубашке с жестким воротником, стянутым полосатым галстуком. Несмотря на жару, он не позволил себе расстегнуть даже пуговку у ворота. За все время, что они мчатся по бесконечному шоссе, не произнес ни слова. Только когда машину встряхивало, доктор открывал глаза, смотрел мгновение безучастным взглядом прямо перед собой и снова закрывал их. На Павла не взглянул ни разу, будто место рядом было пусто.
Пронзительно и однотонно свистел ветер, свист вызывал в памяти вой Киндера.
…Все вышли из номера в коридор, пса закрыли. Он часто.оставался дома в одиночестве, растягивался в прихожей у двери и, положив голову на лапы, терпеливо ждал возвращения хозяев. Хозяева вернутся, никуда не денутся! И не было случая, чтобы он подал голос, залаял.
А в этот раз Киндер, видимо, учуял что-то необычное, неладное или понял, что Павел покидает его навсегда. Кто угадает собачьи чувства и мысли? Он вдруг завыл протяжно, тоскливо, на одной высокой ноте. Вой вонзался в уши, заполнял мозг, леденил сердце. Павел остановился, рванулся назад. Он бы помчался обратно к плачущей собаке, но мамина рука крепко сдавила плечо. Мамина маленькая рука может быть такой тяжелой!
Вой оборвался, а Павлу казалось, что он все еще звучит, мечется в длинном гулком коридоре от стены к стене. А когда ступили на лестницу, Киндер снова завыл.
И только в этот миг Павел по-настоящему понял, что сейчас он уедет, на самом деле уедет от мамы, от Петра, от Киндера… Они останутся здесь, будут жить без него, а он - без них один, совершенно один в далекой чужой Германии, которую и представить себе не мог, даже рассматривая ее на цветных открытках у доктора Доппеля.
Лестница и вестибюль внизу начали терять очертания, становились зыбкими. Сквозь набежавшие на глаза слезы он увидел, как шедший впереди штурмбанфюрер Правее, не останавливаясь, обернулся и сказал Доппелю:
– Собака воет не к добру.
В голосе прозвучало плохо скрытое злорадство.
– К покойнику, а мы - уезжаем, - отпарировал Доппель.
Павел шмыгнул носом и поморгал ресницами. Предметы и люди обрели четкость. Нет, он не заплачет. Хотя бы ради мамы, чтобы не терзать ее сердце. И не доставлять удовольствия штурмбанфюреру. Мама хочет, чтобы они думали, что он настоящий немец!… Он взглянул на осторожно ступающую рядом мать. Какая у нее прямая спина, независимо и гордо поднята голова, а бледное лицо спокойно, словно высечено из мрамора.
Внизу, на середине вестибюля, расставив ноги в блестящих сапогах, стоял офицер, начальник караула, и с удивлением вслушивался в вой Киндера.
Спустились вниз. Остановились у входной двери.
– Все будет хорошо, Гертруда, - сказал Доппель. - Ждем писем.
– И я буду ждать, - ровным голосом произнесла мама.
А Петр спросил:
– А мне можно будет приехать к Паулю в Берлин? Я тоже никогда не бывал в Берлине.
Ай да Петька! Доппель улыбнулся:
– Полагаю, можно. И очень скоро. Война подходит к концу, - сказал он назидательно, - Москва, отрезанная от угля, железа и хлеба, умрет естественной смертью. Поцелуй маму, Пауль. Из-за тебя мы опоздали почти на два часа.
Павел обнял мать, и она вдруг показалась ему маленькой, хрупкой и беззащитной. Он шепнул ей по-русски:
– Я тебя очень люблю, мама.
А Петру сказал:
– Ты теперь у мамы за двоих.
И Петр понял его.
И когда Павел вместе с Доппелем вышел из гостиницы - остальных не выпустили автоматчики, - и когда садился в машину, и заурчал мотор, и машина тронулась, время как бы остановилось, сжалось в одно горькое мгновение. А в ушах непрерывно звучал вой Киндера. И потом, когда выехали за шлагбаум на мосту и помчались по шоссе, Павел слышал тоскливый голос своего мохнатого друга. Вой словно завяз в ушах.
…Доппель открыл глаза, взглянул на серую реку шоссе, стремительно текущую под машину. Впереди показалась деревня. Справа и слева от дороги стояли на пепелище кирпичные печи с длинными вытянутыми к небу шеями труб. Будто села на землю стая больших нелепых птиц. И ни живой души вокруг.
Запахло гарью.
Доппель поежился, приказал шоферу:
– Поднажмите, Фишман. Надо засветло доехать до города.
"Боится партизан", - подумал Павел.
Зелеными, стремительно мелькающими стенами побежал мимо лес. Павел пытался отделить деревья одно от другого, но ничего не получалось. Глаза устали. Он закрыл их и представил себе, как из лесу выскакивают на шоссе партизаны. Здесь был и Алексей Павлович, и тетя Шура, уводившая их в прошлом году от деда Пантелея, и Семен с пистолетом на поясе, и еще много-много людей, мужчин и женщин, перепоясанных пулеметными лентами крест-накрест поверх ватников и тужурок. В фуражках и папахах. А впереди - огромный "дядя Вася", о котором столько говорили фашисты. В руках у него граната. Лимонка, величиной с футбольный мяч. Он бросает гранату. Шоссе перед машиной встает на дыбы черным дымным столбом. Машина спотыкается об этот столб, переворачивается, летит в кювет.
И вот уже связаны крепкой веревкой и доктор Доппель, и Отто, и шофер Фишман.
"Дядя Вася" подходит к нему, к Павлику, и говорит громовым голосом:
– Иди в Гронск, Павка. Там тебя ждет мама. И вот тебе автомат на всякий случай.
И дает ему новенький, холодный, тяжелый автомат.
От сладкого видения Павел улыбается, сам того не замечая.
Доктор Доппель покосился на него. Он уже не так сильно сердится за побег. Мальчишка! Да и Фишман жмет, в город они приедут еще засветло.
Сбежал, паршивец! Ну ничего, он из него сделает настоящего мужчину, опору рейха. И Гертруда… Теперь, когда Павел с ним, она связана по рукам и ногам. Кончится война, он с ее помощью приберет к рукам весь город: рестораны, пивные, лавки. Деньги потекут рекой! Гертруда - истинный клад, деловая женщина. И нашел ее он, Доппель.
– Побыстрее, Фишман!
Павел открыл глаза. Поперек шоссе легли синие тени. Солнце садилось за зеленую стену.
Партизан не было. А жаль…
6
Флич пришел в гостиницу как обычно около шести. Улицы перекрыли эсэсовцы, солдаты и полицейские. Несколько раз его останавливали, проверяли пропуск.
Вдоль здания гостиницы прохаживались автоматчики. Ресторанные окна были раскрыты, тяжелые плюшевые шторы не пускали в зал солнце. Улица пустынна. Из соседних домов и домов напротив никого не выпускали.
В вестибюле возле швейцарской сидел неподвижно штурмбанфюрер Гравес, встречал и провожал каждого проходящего тяжелым взглядом немигающих выпуклых глаз. Взгляд и поза делали его похожим на филина.
Флич приподнял шляпу и поклонился. Гравес едва приметно кивнул.
Сначала Флич намеревался пройти наверх к Гертруде, но почему-то передумал, взял в швейцарской ключ от артистической и направился прямо туда. Артистическая помещалась напротив запасного хода в ресторан, в самом конце коридора, возле туалетов.
На стульях и столе лежали в беспорядке брошенные после вечернего представления цветные шелковые ленты, платки, бумажные цветы. Большое алое полотнище с белым кругом в центре и черной свастикой на нем свисало с подоконника. Под ним в клетке клевал пшено маленький пестрый петушок. Длинные перья хвоста отливали синевой. Петушок покосился круглым глазом на вошедшего и снова деловито застучал клювом.
Флич присел на стул, сдвинув в сторону ленты. Никакого особого волнения он не ощущал, хотя вечер предстоял необычный. Он достал из кармана медный пятак, уверенно повел его между пальцами с лицевой стороны ладони на тыльную и обратно. Пятак двигался ровно, подчиняясь неприметным движениям тренированных мышц.
Флич вызвал в памяти ресторанный зал, столики, накрытые подкрахмаленными белыми скатертями, тяжелые люстры, металлический шар, подвешенный к высокому потолку и оклеенный мелкими зеркальными пластинками. В углах зала - четыре прожектора с цветными стеклами. Шар висел когда-то под куполом цирка. И прожектора - цирковые. Они посылали круглый яркий луч и назывались "пушки".
Сначала в ресторане появились прожектора. Он помнит, как во время танцев впервые погас в зале свет и четыре цветных луча заметались по потолку и стенам.
Комендант города полковник фон Альтенграбов крикнул истеричным тонким голосом: