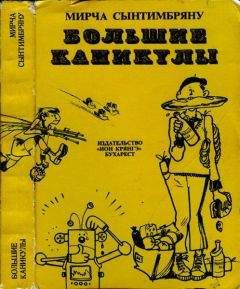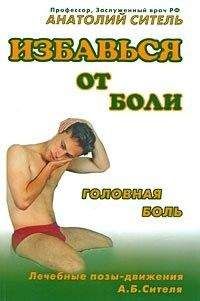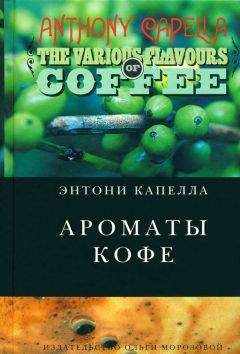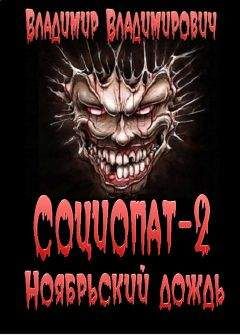Я подошел к концу — выследил почти все листы. Не хватало всего трех страничек. Они не появлялись, и так как мне уже порядком надоела вся эта история, я подумывал было прервать следствие, как вдруг услышал голос:
— Ну чего вы? Чего ждете?
— Жду еще три страницы. Сумма не получается…
— Как так не получается? Мы здесь.
— Да, но вы такие… чистые, не исписанные, не мятые. Почему вы не в тетради?
— Потому что мы выпали сами. Так всегда бывает в тетрадке с вырванными листами. Остальные выпадают сами.
— Так что же мне с вами делать? Вставить назад, в тетрадь?
— Нет, нет, — ответили все три хором. — Используйте нас! Напишите об обычаях этих школьников. Тетрадь и так уже кончилась — пусть она принесет хоть какую-нибудь пользу… чтобы в другой раз это не повторялось…
Странички были правы. Я засел за работу. Теперь мой рассказ написан и, как видите, ровно на трех страничках.
ПРИЗНАЮСЬ ЧЕСТНО И ДАЖЕ с удовольствием: я завидую Гогу Буздугану. И не столько его стальным (или, если нужно, резиновым) мускулам, сколько мужественному и благородному характеру, и особенно, да, особенно его поистине рыцарской чести. «Честь превыше всего» — вот девиз, хотя и не начертанный на знамени или шарфе, сверкает в его пламенном взгляде. Ничто не ускользает от этого взгляда. Даже самое мизерное, самое микроскопическое отступление от правил рыцарской чести. Пессимисты могут сколько угодно оплакивать закат рыцарства. Их причитания меня не волнуют. Они не знают Гогу Буздугана! Они не видели нового Аргуса (с примесью древнего Геракла), бросающего вокруг проницательные взгляды, а если надо, пускающего в дело и кулаки для защиты благородного идеала — справедливости!
Вот он! Весь трепещет. Глаза пылают.
Откуда-то с верхнего этажа раздается плач, время от времени прерываемый иканием, как шипение патефонной иглы на сломанной пластинке. Рыцарю этот звук знаком: это плачет, всхлипывая, девочка. Жертва? Несколько прыжков — и он уже наверху. Здесь, скрючившись и уткнувшись носом в полочку живого уголка, плачет какая-то девочка. Так, сгорбленная, заплаканная, с растрепанными косичками она кажется плакучей ивой, выросшей в цветочном горшке.
— Чего ревешь? — громовым голосом вопрошает рыцарь.
— Мальчиш-ка по-бил… — отвечает девочка.
— Какой? Как посмел?
В глазах рыцаря, под сведенными бровями, делается темно, как в небе. В грозовом небе, полыхающем молниями.
— Вон тот, — указывает девочка на мальчишку в матроске.
— Пошли.
Он берет ее за руку и, мрачный, взъерошенный от возмущения, полный мстительных замыслов, направляется к агрессору.
— Послушай, ты, хулиган, почему ты ударил эту девочку? Негодяй, несчастный, не видишь, какая она слабенькая?
— Я? Я ее ударил? — растерявшись, защищается матрос. — Я только толкнул ее немного… в шутку. Да, по правде сказать, даже и не задел. А потом… — ноет хулиган, поглядывая на бицепсы рыцаря, — она тоже меня злыднем назвала!
Девочка всхлипывает, заплетая косички.
— Он подставил мне подножку и стал дергать за косы, — объясняет она. — И тогда я сказала ему «злыдень», а он стал толкаться.
Рыцарь несколько секунд молчит, обдумывая ситуацию. И вдруг набрасывается на девочку:
— Значит, ты сказала ему «злыдень»? Ты, несчастный мышонок, позволяешь себе оскорблять мальчика? А ну, катись отсюда, не то как дам — своих не узнаешь!
Дрожа от сдерживаемой ярости, он смотрит вслед улепетывающему по лестнице «мышонку», затем, повернувшись к моряку, по-рыцарски хлопает его по плечу:
— Знаешь, друг, ты меня прости. Я думал, ты побил ее так, без причины… Но если она тебя оскорбила, я согласен.
Вот почему я сказал вначале: пессимисты не правы. Рыцарство не исчезло. Они просто не знакомы с Гогу Буздуганом!
СТОЯЛ МЯГКИЙ И ТЕПЛЫЙ ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ, когда, в очереди у телефона-автомата я познакомился с изображенным здесь мальчиком. И прошу вас поверить мне, дорогие читатели: на этот раз художник не преувеличил ни капли. Именно так он и выглядел. Может быть — даже определенно — лишь более вспотевшим. В остальном же все — как вы видите: закутанный в пальто, из-под которого выглядывали полы вздувшегося пиджака, в двух или трех, не помню точно, жилетках, с тремя — это я помню точно — галстуками и все, все — в узелках, с головы до пяток. Так, закутанный в сто одежек и взмокший от жары — прошу вас поверить мне и на этот раз! — он казался кочаном капусты, вытащенным из бочки с рассолом.
Люди в очереди смотрели на него сочувственно, как на больного.
— Ангина? — спросила старушка, готовая уступить ему очередь.
— Вот еще. Ничего подобного, — ответил парнишка, пожимая плечами.
— Тогда ларингит, — предположил какой-то юноша. — Ты, вероятно, хочешь позвонить в аптеку. Пожалуйста!
— Нет у меня ларингита, — промямлил тот.
— Наверняка плеврит, — послышался еще чей-то голос. — Мальчику надо в больницу. Пусть позвонит!
И все уже собрались отойти в сторону, когда наш герой вдруг рассмеялся:
— Спасибо, что вы уступаете мне очередь, но не беспокойтесь, я вполне здоров… Просто у меня, если уж вы хотите знать, идут контрольные. Эту идею — продолжал он, указывая на свою одежду, — подсказал мне платок. Точнее, узелок на платке. Знаете этот прием? Все очень просто. Вы боитесь что-нибудь забыть? Раз — узелок на платке! Боитесь забыть что-нибудь еще? Раз-раз — два узелка, и так далее. Раз-раз-раз! Не надо никакой памяти! Идете на контрольные с пустыми руками, без ранца, только посвистываете. Черновик по истории — нагрудный платок; тетрадь по географии — клетчатый платок; по арифметике — полосатый, или, соответственно, пестрый… Я даже не хожу в книжный магазин, прямиком — в текстильный:
— Дайте, пожалуйста, платок.
— Большой, маленький?
— Э-э-э, можно и поменьше. Для прикарпатских холмов.
Или перед контрольной — прихожу к маме:
— Мамочка, дай мне еще пять платков!
— Ох, уморил ты меня этими платками, — говорит она. — Купил бы капли от насморка…
— Какие капли? Зачем капли? Для меня насморк — благословение… Хм…
Мальчик на минуту замолчал, потом усмехнувшись продолжал:
— Бывают, конечно, и недоразумения. Однажды проштудировал я всю зоологию, оформил ее художественно, в шестидесяти пяти узелках и вышел пройтись; возвращаюсь — ужас!
Мама стирает. Весь класс слоновых уже в воде, амфибии — в пене, а она как раз собирается залить кипятком дромадеров и верблюдов. Нет, узелки — дело верное! Нехватило платков — берешься за шнурки на ботинках. Например, по истории: один узелок — значит, задали про Рареша. Еще один — значит, он правил дважды. Двойный узел означает тысячелетие, простой — сто лет, вот такусенький — десять, а единицы я пишу на ногтях. Кончился шнурок? Перехожу на другой ботинок, второе царствование. Войны я ношу на платках. Выглаженный платок — не вел войн. Смятый — вел и проиграл. Морской узел — сражение на море. Рыбачий — на реке: Васлуй там, Кэлугэрень, Высокий мост, мало ли… Поэтому я никогда не ношу сандалий. Предпочитаю ботинки… И шнурки подлиннее. Теперь, когда идут контрольные, я так и хожу, закутанный: тулуп, пиджак, брюки, ботинки… Жарко, конечно, жарко до чертиков и на улице и в школе. Тем более, что я возле печки сижу. Ох, хоть бы уж поскорее кончилось! Я и сплю в ботинках. Не могу развязать шнурки. Два дня мучился с химическими формулами… Ну уж зато потом… ах! потом я сброшу и тулуп, и пиджак, и жилетку… Отнесу все в химчистку. Но пока об этом не может быть и речи. Нет! Я уж и так один раз влип… Вся Южная Америка растопилась: пуговицы оказались казеиновые. Сейчас я звоню домой. Забыл шарф. А на нем обозначено число верблюдов в Северной Африке…
Теперь стоявшие в очереди у телефона-автомата знали, что мальчик не болен ни ангиной, ни ларингитом, ни плевритом, но смотрели на него с таким сочувствием, словно он болен всем этим сразу.
Парень совсем уже было приготовился набрать номер, как к нему протиснулась старушка:
— В хвост, несчастный! В очередь!
КОНЕЦ ТРИМЕСТРА. САНДУ ПОЛУЧИЛ ЗАДАНИЕ написать в школьную (заметьте: школьную) стенгазету об успеваемости семиклассников и в первую очередь, конечно, пионеров. Это очень просто, не правда ли? Стоит вырвать из тетради листок, провести красными чернилами поля, набросать заглавие на две колонки и потом тщательно списать из классной стенгазеты старую статью, хоть она всего лишь на одну колонку да и озаглавлена не слишком удачно. В самом деле, на первый взгляд нет ничего проще. Но только — на первый. Потому что — как же может Санду продернуть в школьной стенгазете (заметьте — школьной) Митику Д. Думитреску? Да, Митику Думитреску: кроткого Митику, своего соседа по парте, старого, доброго друга и щедрого обладателя вечно раздувшейся клеенчатой сумки, благоухающей осенью айвой, а зимой — домашней колбасой? Молчаливого Митуша, свою верную тень, непревзойденного переписчика всех планов и отчетов? Ужас! Он должен был бы написать % так: