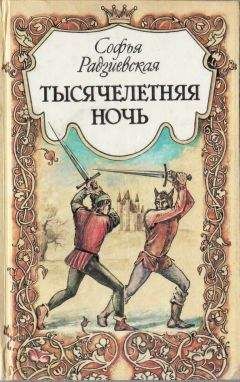Трудно сказать, сколько времени длился этот изматывающий бег наперегонки с лесным пожаром и чем бы он для него закончился, если б не счастливая передышка: на минуту ветер вдруг подул в обратном направлении и освежил раскалённый воздух. Едва державшийся на ногах Гуг замедлил бег и впервые осмотрелся. Рядом с ним, не спуская с него ярких жёлтых глаз, мягкими скачками бесшумно двигалась старая рысь с рысёнком в зубах, однако она не проявила враждебности, точно инстинктом чувствовала, что вреда её детёнышу человек не причинит. Снова горячий дым хлынул на них сзади, и Гуг снова рванулся вперёд, уже не обращая внимания ни на что. Искры жгли его голую шею, в глазах потемнело, земля ушла у него из-под ног и… с крутого берега он полетел в прохладную воду реки. Вынырнув через мгновение, почувствовал, как отчаянно забился у него под рубашкой захлебнувшийся рысёнок. Вытащив, посадил его к себе на спину. «Держись, братец, — сказал, — кажется, обошлось».
Река кипела от рассекающих её копыт и когтистых лап. Зайцы плыли вперегонки с белками и хорьками, широкой грудью рассекали воду олени и лоси, а совсем рядом с Гугом, прижав уши и высоко подняв над водой голову, плыла, не сводя с него грозных и умоляющих глаз, старая рысь с детёнышем в зубах.
За спиной у пловцов весь берег пылал как костёр. Деревья шипели и вспыхивали, кусты можжевельника трещали и сыпали дождь мелких обжигающих искр. Воздух и над самой водой был раскалён и наполнен дымом и гарью, так что Гуг, загребая руками, поминутно опускал в воду воспалённое лицо. «Плыви быстрее, тётушка, — напутствовал он рысь. — Да присматривай за малышом у меня на спине — мне некогда, чувствуешь, как несёт нас течение…» Но тут шутка замерла у него в горле: шагов на триста вниз по реке начиналась знаменитая быстрина, за ней пенился непроходимый водопад. Слабых пловцов уже несло туда, к гибели. Изо всех сил боролось с течением стадо оленей, рядом пыхтел и фыркал громадный бурый медведь. Гуг горько пожалел о том, что в страхе перед огнём совсем забыл о коварстве реки и уступил течению несколько десятков драгоценных ярдов. Теперь он, круто повернув, рассекал воду с силой отчаяния, и старая рысь следовала за ним. Но силы его, уже надорванные долгим бегом, слабели, шум водопада позади разрастался. Гуг забыл уже о рысёнке, вцепившемся ему в спину, почти не сознавал, что делает, видел только, что деревья на желанном берегу убыстряют свой бег. Визг, вой, рычание раздавались вокруг, многие из пловцов в смертельной тоске уже поняли бесполезность борьбы. И всё-таки, стиснув зубы, закрыв глаза, Гуг плыл и плыл. До берега оставалось несколько взмахов руки, однако течение тут было самым быстрым, намокшая одежда казалась невыносимо тяжёлым грузом… И вдруг он совершенно отчётливо услышал голос брата:
— Ну же, Гуг, сюда, сюда! Держись за эту ветку, крепче, вот так!
Больше он ничего не слышал.
Поздно вечером, недалеко от места страшной переправы, в уютной пещере горел, наполняя её светом и теплом, небольшой костёр. Опираясь на руку, на куче мягкой травы лежал Гуг и задумчиво следил, как быстро и аппетитно румянится насаженный на крепкую дубовую палку большой кусок дичины.
— Так ты говоришь, её унесло в водопад, Улл? — заговорил он.
— Перед самым берегом. — отозвался «монашек», поворачивая вертел. — Если бы схватилась зубами за жердь, которую я ей протягивал, она бы спаслась. Но в зубах она держала детёныша…
Братья помолчали. Разгоревшийся костёр осветил их ярким светом, и выступило не исчезнувшее с годами разительное их сходство. Гордый взгляд своевольного Гуга, правда, теперь сочетался с мужественной силой, а природная кротость Ульриха и впрямь сделала его похожим на монаха — тихая жизнь монастыря была ему сейчас милее, чем когда-либо, но он подавлял в себе стремление к ней ради брата, которого не решался оставить.
Ужин поспел и был съеден. Сидя в тёплой пещере, в чудесном сознании временной безопасности, братья болтали о пустяках, с явной приязнью поглядывая друг на друга. Вдруг лёгкая тень затуманила подвижное лицо Ульриха.
— Гуг, — заговорил он нерешительно. — Ты рассказал не всё, что делал и кого видел. Но я не знаю…
— Что тебе неизвестно? — с лёгким смущением торопливо прервал его Гуг. — Ты знаешь всё до самого конца.
— Я не знаю одного, — спокойно договорил монашек, — зачем ты возвращался в места, где нас не ждёт ничего, кроме горьких воспоминаний и опасностей?
Гуг незаметно переменил позу так, чтобы свет не падал на лицо.
— Я пошёл за тем, — глухо прозвучал его голос, — без чего не могу жить. И опять пойду, хотя бы это стоило мне жизни. Я пошёл за тем, чтобы хоть на минуту увидеть её… госпожу Элеонору…
Бледный луч луны, обходя поля серебряным дозором, заглянул в пещеру у реки. Уголья костра покрылись серым налётом золы, сквозь который изредка вспыхивали угасавшие огненные змейки. Братья лежали в глубине пещеры, укрытые единственной сухой оленьей рубашкой. Рядом, накормленный и согретый, мирно спал большой серый котёнок с рысьими кисточками на ушах. Гуг не спал, широко открытые глаза его были полны мучительной думы…
Перед самым восходом уже побледневшая и прозрачная луна пробралась в высокое стрельчатое окно опочивальни графини Гентингдонской. Мягкий луч скользнул по белой фигуре у окна и зазолотился на длинных косах, струившихся вдоль складок одежды.
— Мама, — послышался детский голос. — Ты что не спишь? — вторая белая тень, прихрамывая, выбралась из кровати и появилась в амбразуре окна, тесно прижалась к первой. — Мама, я всё думаю о Гуге. Мы увидим его ещё когда-нибудь?
— Не знаю, — прозвучал тихий ответ.
— Но он спас мне жизнь… И потом он такой… Скажи, а раб мог бы быть моим другом?
На этот раз ответа не было. Очарованный красотой ночи, Роберт не настаивал. Лёгкие пушистые облака набежали и закрыли смятенный лик луны.
— Ты четвёртый раз делаешь ту же ошибку, Роберт. Если и дальше пойдёт так, мне придётся поступить, как делают все учителя.
— А как они поступают, отец Родульф? — с напускной почтительностью отозвался весёлый кудрявый мальчик.
Урок проходил в небольшой комнате вверху одной из замковых башен. Сквозь узкие окна виднелись прозрачная извилистая река и деревня в излучине её, а с другой стороны — вершина скалы и красная черепичная крыша замка. Невеликие пространства пашни переходили в густой дубовый лес на вершинах кудрявых холмов. Живые синие глаза маленького ученика так и перебегали от одного окна к другому, забывая о громадной книге из пожелтевшего пергамента, лежавшей на столе.
— Они бьют их, Роберт, крепкой толстой тростью. По пальцам и по спине! — отец Родульф встал, вроде бы собираясь привести своё намерение в исполнение.
— А что делают тогда ученики? — так же бойко продолжал Роберт, и синие глаза его лукаво сверкнули.
— Плачут и исправляются, — ответил окончательно раздражённый монах и, повернувшись спиной к мальчику, протянул руку за тяжёлой тростью. — Ты надоел мне и сейчас это почувствуешь на себе. — Но, обернувшись уже с тростью в руке, монах застыл от изумления: стул воспитанника был пуст, а во всей голой монашеской келье, казалось, негде было и спрятаться.
— Роберт! — раздражённо воскликнул отец Родульф и собрался уже было заглянуть под узкую кровать, как вдруг звонкий смех заставил его поднять глаза: весёлая кудрявая головка выглянула из узкого окна.
— Я очень испугался, отец Родульф, — жалобным голосом проговорил насмешник. — Я скоро исправлюсь и тогда вернусь к тебе. И потом у моего любимого сокола что-то с крылом, нужно посмотреть.
— Ты сорвёшься! — вскричал монах, бросаясь к окну.
— Виноград такой же крепкий, как твоя палка, — донёсся голос мальчика уже снизу. — Я держусь.
Столетняя лоза дикого винограда обвивала поросшую мхом старую башню. Цепляясь за её крепкие узловатые плети, Роберт спускался по отвесной стене с быстротой и проворством белки. Башня стояла над самым обрывом и, сорвавшись с неё, он неминуемо разбился бы об острые скалы, обрызганные белой пеной горной реки. Но ловкая фигурка в красной одежде с развевающимися локонами спускалась всё ниже. Через минуту Роберт добрался до одного из зубцов стены, на которой высилась башня, и с весёлым криком скользнул вниз — на землю.
Отец Родульф медленно выпрямился и, скрестив руки на груди, пристально смотрел вдаль с каким-то странным выражением. Дело в том, что до появления Роберта на свет Родульф был единственным наследником всех богатств Гентингдона. Окажись сегодня виноградная лоза менее прочной, волны унесли бы тело мальчика… и снова возродились надежды монаха.
Гордый и тщеславный человек, обуреваемый вполне людскими желаниями, он прекрасно осознавал, что монашеская жизнь не для него. Но судьба облачила в монашескую рясу, не оставив выбора.