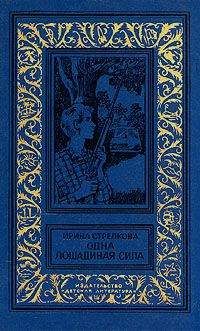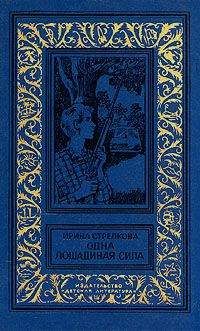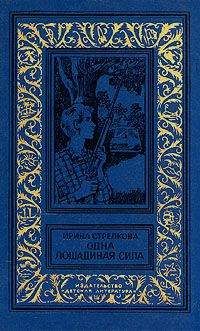Володя сначала зашел в дом, чтобы переодеться. Свой единственный костюм он очень берег.
Дом состоял из двух комнат. Володя взял себе первую комнату, она же служила столовой и кухней, а Таньке уступил бывшую спальню родителей. Шифоньер стоял у Таньки, и Володя сразу же прошел за перегородку, снял костюм, аккуратно повесил в шифоньер, закрепив брюки в специальный зажим, чтобы они отвиселись. От частого глаженья, по наблюдениям Володи, одежда быстрее изнашивалась.
В трусах и майке он вышел на крыльцо, почистил щеткой ботинки и вернулся в дом. Вставив в ботинки деревянные колодки на пружинах, Володя задвинул их под диван, на котором спал. В изголовье дивана лежал шестирублевый тренировочный костюм. Володя надел костюм, вытащил из-под дивана домашние тапочки. Теперь он покажется ребятам из Танькиного класса, перекусит и засядет за работу. Но вот ведь рассеянность! Он забыл вынуть ручку из кармана пиджака.
Володя прошел за перегородку, открыл дверцу шифоньера. В мутном зеркале промелькнула вся комната, и вдруг вдалеке возникло прекрасное, любимое лицо. Таисия Кубрина! Здесь, в его доме!
Володя обернулся и увидел над Танькиной постелью пропавший из музея шедевр Пушкова.
На обратном пути Вера Брониславовна много рассказывала о покойном муже, о его трудной жизни, удивительной непрактичности. Он настолько был привязан к своим картинам, что сначала с великой неохотой соглашался их продавать даже в хорошие собрания, а потом вовсе перестал выставляться. Старая дама рассказывала о муже с истинной любовью и сделалась проще, милее. Ольга Порфирьевна от души радовалась за нее и жалела, что рядом нет Володи Киселева — как много ценных деталей он мог бы получить для своей книги о Пушкове!
Все настроились умиротворяюще — и дернула же нелегкая любознательного Колоскова спросить про Таисию Кубрину, послужившую моделью для самой знаменитой картины.
Ольга Порфирьевна посерела — она до сих пор не могла набраться смелости и доложить начальству о пропаже. Трусила, откладывала — и дооткладывалась!
Оглянувшись на Веру Брониславовну, она увидела, что та с трудом приходит в себя.
Так случалось всегда, если в музее кто-то из слушателей Веры Брониславовны с обывательской дотошностью начинал выспрашивать несчастную вдову об отношениях между ее мужем и гибельной красавицей, изображенной на портрете. А спрашивать об этом стали чаще и чаще. Вместе с ростом известности «Девушки в турецкой шали» все крепче прирастала к портрету легенда о роковой роли Таисии Кубриной в жизни художника. Так к известному полотну Репина в Третьяковке приросла история сумасшедшего, порезавшего картину ножом. В статьях о Пушкове стали непременно упоминать того критика, который сказал о сходстве девушки в турецкой шали с Настасьей Филипповной. Критик, некогда пользовавшийся известностью, а потом забытый, в связи с этим стал выплывать из небытия. То в одном, то в другом полулитературном издании перепечатывались его статейки, абсолютно слинявшие за прошедшие полвека. Мода на критика обещала вскоре выдохнуться, но слухи о Таисии все ширились. Работников музея стали упрекать в том, что они проявляют непростительное равнодушие к столь замечательной личности. Где она сейчас? Как сложилась ее судьба? Ну и что, если она с отцом эмигрировала в годы революции! Мало ли бывших эмигрантов впоследствии вернулись на родину, а некоторые, живя на чужбине, вели себя достойно, участвовали в Сопротивлении.
На такие доводы посетителей Ольга Порфирьевна строго отвечала, что если бы жизнь Таисии Кубриной сложилась на чужбине достойно и неординарно, то на родине об этом уж как-нибудь стало бы известно. Вера Брониславовна ни в какие объяснения не вступала, тут же переводила разговор на другую тему. Но Колоскову она ответила с глубочайшей печалью:
— Эта женщина причинила Вячеславу Павловичу много горя. Мне трудно о ней говорить, но вам я расскажу. Вы добрый, внимательный, сердечный человек… — Колосков не знал, куда деваться от смущения. Она прерывисто вздохнула. — Фу ты, как волнуюсь! С чего же начать? С самого Кубрина? Муж о нем часто вспоминал, их связывали сложные отношения. Владелец Путятинской мануфактуры был сделан из того же теста, что и Савва Морозов, Савва Мамонтов или Щукин. Эти трое были большими оригиналами. И Никанор Кубрин тоже, на свой образец.
Пушков не раз говорил мне, что русское купечество за короткий срок, отпущенный ему историей с конца восемнадцатого века по начало нашего, двадцатого века, словно бы торопилось выработать яркий тип чисто русского самодума, самовластителя, самодура. Русский купец походил на русского барина своими сумасбродными причудами, и, хотя отличался от барина деловитостью, в нем не было западной буржуазности, самоуверенного практицизма. Вячеслав Павлович любил сравнивать фантазии американских миллионеров с теми причудами, на которые швырял деньги русский купец. Выходило, что у американца непременно есть свой эгоизм, а у Тит Титычей — чистая бескорыстная блажь.
Никанору Пантелеймоновичу Кубрину русские невесты не подходили. Он укатил жениться в Италию и действительно воротился очень скоро с супругой-итальянкой. Чтобы она не тосковала по южной теплой родине, Кубрин выстроил в Путятине дом — точную копию какого-то знаменитого палаццо во Флоренции. Строили дом мастера-итальянцы, мрамор возили из Италии.
Красавица итальянка умерла родами. Говорила, что у себя в Италии она была служанкой в трактирном заведении, где ее и увидел Кубрин.
Когда молодой художник Пушков впервые попал в этот дом, итальянки давно уже не было в живых. Как-то Вячеслав Павлович спросил хозяина, зачем он, сооружая флорентийское палаццо, заставил строителей выкопать такие глубокие подвалы, в хозяйстве вовсе не нужные.
«А как же без погреба? — усмехнулся Никанор Пантелеймонович. — Уж не думаешь ли ты, что итальянцы живут без припаса, на фу-фу? У них подвалы поболе наших. Они жаднее нас, старой жилетки не выбросят. Поехал бы да поглядел, какие они запасливые…»
Кубрин слов на ветер не бросал. Он дал Вячеславу Павловичу деньги на поездку в Италию с единственным условием: произвести обмер подвалов во всех примечательных зданиях. Капризное купеческое условие художник выполнил со всем педантизмом, на какой только был способен. Кубрин не глядя сунул его отчет в шкаф и забыл про все подвалы на свете. К Вячеславу Павловичу этот самодур был по-своему привязан, помогал ему и дальше — до того дня, как художник отказался продать портрет Таисии…
Вера Брониславовна достала из сумочки крохотную, с ноготь, баночку настоящего вьетнамского бальзама «Золотая звезда», протерла бальзамом виски и ноздри.
— Это меня укрепляет. — Она предложила бальзам Ольге Порфирьевне и Колоскову.
Они поблагодарили и отказались: баночка была уж очень мала.
— Муж писал «Девушку в турецкой шали» в доме Кубрина, — продолжала Вера Брониславовна. — В том зале, где сейчас размещена экспозиция по истории Путятинской мануфактуры. Потом он увез портрет в Петербург и не собирался его выставлять. Но следом явилась Таисия и настояла, чтобы «Девушка в турецкой шали» была выставлена. Дочь Кубрина привыкла, чтобы все ее желания исполнялись и все сумасбродные поступки сходили с рук. Она стала появляться на выставке, накинув на плечи турецкую шаль, стоившую, кстати, баснословных денег. Дурацкие слова насчет ее сходства с Настасьей Филипповной толкнули Таисию на всяческие скандальные выходки. Вячеслав Павлович очень страдал. Он был человеком самых строгих правил и любил Таисию, но Кубрин на его официальное сватовство ответил самым грубым отказом. Вот, собственно, и весь роман художника с девушкой в турецкой шали. Однако Таисия распускала о себе и Пушкове самые невероятные слухи. Вячеслав Павлович никогда не рассказывал о причине разрыва с Таисией, но разрыв был ужасный. Целый год он не мог взять в руки кисть, не мог даже войти в мастерскую. Потом спрятал портрет Таисии и никому никогда не показывал.
Вера Брониславовна закрыла лицо руками.
— Дайте мне собраться с силами. Доскажу все, как на духу.
— Может быть, не надо? — участливо спросила Ольга Порфирьевна.
— Доскажу! — Голос Веры Брониславовны был непреклонен. — Из жизнерадостного, общительного человека мой муж превратился в неистового отшельника. Не было на свете человека добрее его, но он мог иной раз обидеть более жестоко, чем самый бессердечный эгоист. Ему всегда было безразлично, что он ест, имеется ли вообще в доме корка хлеба. Но иногда он мог раскричаться из-за жесткого мяса, подгоревшей картошки… И все эта женщина…
— Да уж, — посочувствовал Колосков, — досталось бедняге.
Ольга Порфирьевна поймала руку Веры Брониславовны, крепко сжала. Прежде вдова художника никогда не жаловалась, что ей жилось с ним не сладко. Вера Брониславовна вышла замуж за Пушкова в середине двадцатых годов, ее портретов он не писал. Он увлекся старой уходящей Москвой, спешил запечатлеть улочки, дворы, церкви, Москву-реку и московские типы.