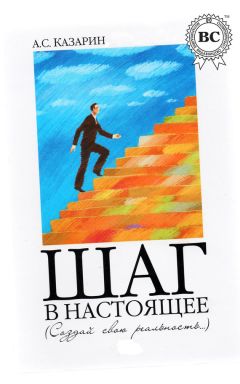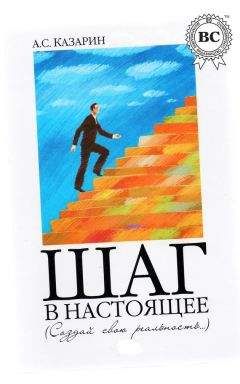Юлька продолжала кудахтать про свои амурные планы, но я слушала вполуха. Все это по большому счету было пустой болтовней. То есть неделю назад я бы тоже с жаром пустилась в обсуждение недостатков и достоинств Юлькиных кавалеров, но сегодня они меня решительно не интересовали. То, что приключилось со мной, перевешивало все ее кошачьи драмы. И тут уж я даже не сравнивала: одно дело — пустяковый прыщ, другое дело — гора Джомолунгма.
Наверное, я вздохнула чересчур трагично, даже Юлька это заметила и споткнулась на полуслове.
— Да ладно тебе! — снизошла она до сочувствия. — Может, вы даже выиграете в итоге.
— Выиграем? Мы? — изумилась я.
— Конечно. Сама же рассказывала, что в последнее время только и делала, что мирила своих предков.
— Ну… Все равно ведь как-то жили.
— Да разве это жизнь? Мои тоже вон сошлись совсем молодыми, а теперь — здрасте пожалуйста! — очухались. Сообразили, что чужие, что на фиг друг другу не нужны. Я спрашиваю: раньше-то чем думали? Когда женились, значит? А маман мне про гормоны грузит, про то да про се. У них же на все отмазка. И по-любому я у них крайняя выхожу. Типа, появилась на свет, и все. Значит, уже и свадьбу не отменить, и прочую обязаловку. А теперь чуть что — кадило раздувают. Она ему, типа, лучшие годы отдала, а он в нее бабок вбухал немерено. А когда уж совсем заводятся, на мне злость срывают.
— Это уж как водится, — поддакнула я. — Держат вроде громоотвода…
— Ага! Только не на ту напали!
— Думаешь, разведутся?
— Уже и не знаю, — вздохнула Юлька. — Раньше думала: точняк разведутся, но время идет, а они не чешутся. То, значит, мирятся, то снова воюют. Меня своей движухой вконец запутали. Иногда думаю: лучше бы врозь жили, а иногда кажется — еще потерпим.
Я задумчиво поскребла нос.
— Так может, и у нас такая же история?
— Причем тут вы? — возразила Юлька. — У вас совсем другое! И матушка твоя не в какой-нибудь Ейск к тетке укатила, а к Бизону.
— Это лучше, по-твоему?
— Конечно, лучше! Сама же рассказывала: он полгода ее обхаживал. Значит, серьезно подъезжал. Типа, с чувствами. Не украл же, как кавказскую пленницу какую, нормально взял и увез. Опять же — не в степь, не в палатку, а к себе домой. Ты видела его коттедж?
— Это трехэтажный, за забором?
— Ага, еще башенки по углам и двор, как футбольное поле!
Я пожала плечами.
— Нам-то что с этого поля?
— Откуда мне знать? Может, картошкой засадите или в гольф играть будете. Какая разница! Я ведь о том толкую, что и вам что-нибудь отломится.
— Больно нужны его обломки.
— Ох и дура ты, Ксюх! Это же Бизон, прикинь! — Юлька округлила щеки и выдула совсем уж огроменный пузырь. Я посмотрела на него, словно на голову Бизона. Пузырь лопнул, пенкой заляпав Юлькино лицо. Крашеными ноготками подруга счистила с себя ниточное тесто, спокойно переправила в рот.
— Знаешь, сколько у него денег? Не знаешь! И я не знаю. А он, говорят, всю землю вокруг поселка скупил. Теперь продает под коттеджи и санатории. Скоро весь берег застроит и станет полновластным хозяином. Так что и Глеба поднимет, и маман твою в меха приоденет, — Юлька воодушевилась. — Вот увидишь, когда-нибудь его и мэром изберут. Вот тогда он по-настоящему развернется.
— Бандита — и в мэры?
— Так везде же так! Мы-то чем хуже? Сначала, значит, воруют, потом избираются.
— Бывает наоборот.
— Да какая, блин, разница! Главное, что мэром у нас станет Бизон!
— Мэром чего? — фыркнула я. — Поселка?
— Да поселок к тому времени в город превратится. Завод-то, прикинь, растет. Стеклотара — она всей стране нужна. Даже второй собираются строить. Где-то под Краснодаром. Понятно, что матушка твоя не устояла. Я бы тоже дрогнула.
— Причем тут ты?
— Ну, это я так… К примеру… — Юлька задумчиво шевельнула бровками. — Она же не старая, симпатичная еще, а тут такой вариант.
— А мы?
— Что вы? Она, может, и ваше будущее просчитала. Жить-то труднее становится. Что нам, в Москву всем уезжать? Так Москва — не резиновая. А здесь — ни работы, ни перспектив.
— Сама же талдычишь про завод!
— Правильно! Только хозяин завода кто? Бизон. Значит, он и будет решать, кто у него работает, а кто лапу сосет.
— Все равно, — я мотнула головой. — Это предательство!
— Тю-ю! — насмешливо протянула Юлька. — Ты в какое время живешь, подруга? Выдумала тоже, предательство! Погляди, как министры-депутаты хороводят. Только так друг дружку сдают и кидают. Скоро, поди, облака с воздухом поделят, все остальное давно по карманам рассовали. Если им можно, нам-то почему нельзя? Тоже, значит, можно.
— Ты в этом уверена?
— Да стопудово! — Юлька бесшабашно болтнула ногой.
— А я не знаю… Все равно она поступила по-свински.
— Понятное дело! Я бы тоже дулась. Они же Глеба забрали, а тебя бортанули. Хотя с другой стороны, папаше вашему тоже кого-то надо было оставить. Типа, для справедливости, — Юлька убежденно кивнула. Она вообще никогда и ни в чем не сомневалась. Даже когда отказывалась от собственных слов.
— Сама посуди, зачем Бизону взрослая девица? Пацан удобнее. И маленький опять же, привыкнуть может. А если ты хотела Глеба себе оставить, так снова накладка. Бизону-то, может, по барабану, но маман-то могла не поехать без Глеба.
— Без Глеба, значит, нельзя, а без меня можно?
— Опять двадцать пять… — Юлька по второму кругу взялась меня учить и успокаивать, но странное дело — слова ее еще больше распаляли сознание, действовали, как соль и перец на ободранные колени.
— Вот увидишь, еще потом радоваться будете, что обзавелись таким родственником. Случись что, и денежками поможет, и на работу устроит…
Юлька продолжала болтать и тараторить, но я уже пожалела, что встретилась с ней. Ничегошеньки она не понимала. Ничегошеньки и ни фигашеньки. Потому что был у меня мир — хороший, складный, красивый — совсем как наша хрустальная ваза. Кстати, ее, по словам мамы, подарили как раз на свадьбу. Большая, граненая, тяжелая! Я специально выставляла ее по утрам на террасу. Солнечные лучи падали на вазу, и она становилась малиново-голубой, переливалась то бирюзой, то рубиновым светом. Солнце перемещалось, и грани чудным образом вспыхивали и гасли, словно некто невидимый плавно перебирал клавиши спектра — совсем как струны неведомой арфы. А теперь этого мира не стало. Руки Бизона подняли его над головой и хряпнули о камни. Но Юлька этого не понимала. Или не хотела понимать.
Съев еще по мороженке, мы расстались. Юлька уходила убежденной, что успокоила меня. Я же чувствовала себя еще более опустошенной. И залитый солнцем поселок — с деревцами черешни вдоль дорог, с черепичными и оцинкованными крышами, с такими милыми двориками — впервые показался мне чужим и неуютным.
Вернувшись домой, я вытащила из серванта свадебную вазу, поставила на стол. Здесь, дома, она была тусклой и серой. Возникло искушение взять и сбросить ее с крыльца. Я несколько минут боролась с собой, даже ударила правой рукой левую, зубами прокусила нижнюю губу до крови. Руки у меня подрагивали, но вазу я вернула на место. Съев какой-то сухарь из хлебницы, запила превратившимся в простоквашу молоком и вышла во двор. Шины у моего «Салюта» малость обмякли, и я привычно подкачала его папиным насосом. Погладила руль велосипеда, словно уговаривала еще поработать, и вывела за калитку.
* * *
Отец работал врачом-офтальмологом в районной поликлинике. Классная вроде бы профессия, когда всем нужен, когда вокруг полно незрячих, но именно это папу и угнетало. Он-то давно сделал свое маленькое открытие, которым успел поделиться с нами.
Люди, по его мнению, видели только то, что хотели видеть. У каждого в этой жизни имелся свой сон, своя цель и свой сектор обстрела.
Иными словами — глазных болезней, как полагал папа, не существовало в принципе. Глаза являлись только придатком нашего воображения, и если человек хотел видеть горизонты, то он их видел. Но при этом мог не замечать самого близкого — луж под ногами, свою родню, грязных обоев на стенах, нестриженых ногтей. Если же бедолага зарывался в профессию, в телевизор, в хозяйство, если отрекался от гор, лесов и восходов, то автоматически получал близорукость, катаракту и глаукому. В чем-то подобная трактовка пересекалась с идеей Егора о параллельных мирах, но папа это объяснял проще. Приземленнее, я бы сказала. Он ведь и фантастики никогда не читал, разве что в детстве. Тогда, по его мнению, еще водилась настоящая литература: Жюль Верн там, Герберт Уэллс, Стругацкие, Обручев с Лемом. Сегодняшних авторов вроде Лукина и Семеновой он даже не знал. А я и Пелевина читала! И Маккамона с Крайтоном.
Само собой, мама называла папино открытие бредом, и большинство пациентов, видимо, могли ее поддержать. Потому что покорно пили и закапывали прописанные им лекарства, меняли очки и мирились с тем, что видят лишь малую частицу мира. Папе лечить таких больных было скучно, но он лечил, потому что ничего другого ему не оставалось. Но временами (увы, достаточно редко!) встречались пациенты-герои, которые соглашались на рискованный эксперимент. Их насчитывалось всего-то человек шесть или семь, но все они в итоге прислушались к папиным советам, взялись за ум и сделали себе стопроцентное зрение. Папа гордился этими пациентами, вывесив их фотографии у себя в клинике на доске почета. Он полагал, это зажжет остальных, и вся страна в конце концов последует отважному примеру, начав заниматься гимнастикой глаз, чисткой хрусталиков и закалкой сетчатых нервов. Увы, почин так и не был поддержан. Галерея «героев» расширялась ужасающе медленно, и работа превращалась в обыденную рутину.