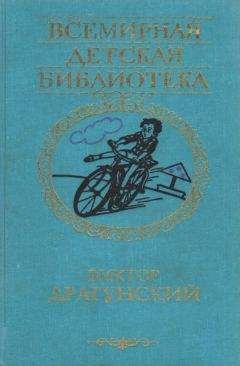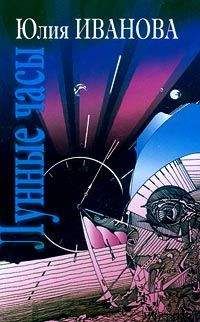Я стоял возле цирка в мучительном ожидании, и не было во мне ни мыслей, ни чувств. У подъезда вытянулись цугом машины, большая толпа стояла почти неподвижно, люди смотрели в распахнутые двери цирка, оттуда неслись приглушенные звуки оркестра.
Мне захотелось услышать запах листьев, и я пошел на рынок и нашел то, что мне нужно было. Немолодая женщина с русскими серыми глазами продала мне огромную охапку последних осенних листьев. Она скорбно покачала головой, подавая их мне. Я вернулся в цирк, положил листья у Ирининых ног и снова вышел на улицу. Видно, я здорово огрубел — я ничего не чувствовал. Стоял возле цирка, смотрел на людей и слушал их бессвязные речи. Огромная машина стояла рядом. Первыми вышли музыканты, они выстроились сбоку, никаких дирижеров не было, музыканты, видно, наизусть знали эту музыку. И тут понесли венки, а за ними выплыл гроб, и я понял, что это Ирина, что это ее несут, что это Ирина так плавно движется на плечах поникших людей. Я узнал Жека, и Жилкина, и Бориса, и Генку, и других, и я побежал к своим товарищам. Я побежал, спотыкаясь, вперед и, как живое тело, обнял тяжелый, пахнущий листьями гроб.
Трубная — Малый театр — кино «Ударник» — Калужская — Градские больницы — Донской…
Как это бесталанно, как уныло, как мрачно придумано. Кто режиссер? Кто это ставил? Это надо изменить. Закрыть и укатать цветущим, вечнозеленым газоном эту безнадежную яму, сорвать и сжечь эту зловещую занавеску разве так должен уходить от нас близкий, любимый человек? Разве так должна уходить от нас смелая, сильная, дерзкая девушка? Высокий купол ярко-синего неба, звенящие тросы, круженье золотых листьев, мерцанье далеких звезд и милый облик, улетающий туда, в космос, чтобы ступить на Млечный Путь и светить нам оттуда вечной и светлой печалью.
Я ушел оттуда, и долго плутал по Москве, и пришел наконец к цирку. Я взял в киоске газеты, остановился у главного входа и механически развернул одну из них. Там было фото ребенка, убитого во Вьетнаме. У его тела рвала на себе волосы мать. И вот здесь, на ступеньках цирка, впервые за эти дни что-то сотряслось во мне, и спазма схватила за горло, и я облился слезами. Я отвернулся к стене от людей и постоял так недолго. Кто-то дернул меня за руку. Это был мальчишка лет семи, в смешном картузе козырьком набок. У него были круглые блестящие глаза. Зубов не было.
— Дяденька, — сказал мальчишка, — это на когда билет?
Я посмотрел его билет и сказал:
— Это на завтра билет. На утренник. В двенадцать часов начало.
Он сказал:
— Я приду. А клоун будет?
Ах, вот оно что. Вы собрались на утренник, товарищ в кепке с козырьком набок? И вы, конечно, хотите увидеть тигра и Клоуна? Или слона и Клоуна? Или, на худой конец, собачек и Клоуна. Клоуна! Обязательно Клоуна!!! Ну, что ж, раз так, — я приду вовремя. Не беспокойся, не опоздаю. Можешь на меня положиться.
Я сказал:
— Конечно. Клоун будет.
Он сказал:
— А вы почему синий?
— Чтобы смешней, — сказал я и выпучил глаза.
— Я люблю клоунов, — сказал он благосклонно и рассмеялся.
Он рассмеялся, мой маленький друг и хозяин, моя цель и оправдание, он рассмеялся, мой ценитель и зритель, и были видны его беззубые десны.
Он рассмеялся, и мне стало легче.
— Скажите Алексею Семенычу, что пришел Николай Ветров.
— Ну и что? — сказала секретарша.
— Мне нужно с ним поговорить.
— Алексей Семенович пишет докладную. Сегодня неприемный день.
Суровый у нее был тон. Но я сказал:
— Вы ему скажите, что пришел Николай Ветров. Тогда он отложит докладную.
Она посмотрела на меня. Я не внушал ей доверия.
— Не знаю, товарищ, — протянула она, — я как-то не уверена…
«Синее лицо, — думалось ей, — в крапочку. Ну и тип! Уж не бандит ли?» Эти мысли бегали по ее лицу, как световая реклама на «Известиях».
— Вы, наверно, недавно на этом месте, — сказал я. — Понимаете ли, здесь специфика. Вы скажите, что пришел я, и он меня примет.
Она передернула плечиками и пошла в кабинет. Через секунду она возвратилась. У нее было гостеприимное лицо.
— Пожалуйста, — сказала она, — проходите.
Я вошел.
— Что скажешь? — сказал он, не подымая головы. Он что-то строчил.
Я сказал:
— У меня к тебе дело, понимаешь. Просьба. Ты ведь знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил.
— Давай, — сказал он.
— Алексей Семеныч, припомни, — сказал я, — скажи, я когда-нибудь, ну хоть раз, отказался от поездки на фронт, если ты посылал?
— Не хватало, чтобы отказывался от поездок на фронт, — сказал он саркастически и поставил точку, там, на своей докладной. — ЗдОрово, сказал он, подняв глаза. — Слушай, а испугался, когда изуродовал лицо?
Он еще не видел меня с крапочками. Я сказал:
— Да, конечно. Уж очень громко бахнуло. Так вот, когда меня отправили на сто двадцать представлений на целину, я отказывался? Говори.
Он смотрел на меня спокойно, с минимальным интересом.
— Ну, не отказывался. К чему ты это?
— А в колхозы, на Магнитку, на Братскую ГЭС, на Хибины, в Каракумы, в Арктику, к черту, к дьяволу я отказывался?
— Учти, Коля, — сказал он, — время дорого.
— А у тебя есть ко мне претензии как к работнику, Алексей Семеныч? Может быть, у меня были выговора или нарушения дисциплины? А?
— Слушай, — сказал он, — если ты выпил, так иди, не мешай работать. — И он снова взялся за ручку.
— Нет, — сказал я. — Алексей Семеныч, вот она, просьба, ты посмотри свой график, вот сейчас при мне, посмотри, найди какой-нибудь «горящий» цирк и немедленно отправь меня отсюда. Объяснять ничего не буду. Я там живо подниму сборы. Я там буду давать вечера смеха. Отправь меня, друг.
Впервые в его глазах я увидел настоящее удивление. Он весь подался вперед. Он ушам своим не верил.
— Хочешь бросить программу?
— Нет. Просто не могу. Нету сил, — сказал я. — Давай без скандала.
Он помолчал, не спуская с меня глаз, и вдруг ему показалось, что он нашел, чем меня убедить:
— Не дури, Коля, брось, — сказал он, — ты интереса своего не понимаешь, тебе надо быть в этой программе, надо! Ну, посуди сам, ты давно не был в Москве и вот появился. Новая программа, новая публика, центральная пресса, и снова все заговорят о тебе: Ветров, Ветров, вы видели Ветрова? Я вчера видела Ветрова, то-се, встречи с композиторами, Дом актера, а как же? Там, глядишь, министр в цирк заглянет, ну, пусть не сам, пусть его дети, — кто понравился? Опять Ветров! А тебе уже давно пора звание получать, а ты тут как тут, на виду у общественности столицы! И нам будет легче ставить вопрос. Не дури, Коля, брось…
— Слушай, — сказал я, — подбери город подальше. И где сборы плохие. Я вам помогу.
Тут он ни с того ни с сего игриво так покачал головой, двусмысленная улыбка пробежала по его губам, и он саданул меня с размаху:
— Коля, никогда не поверю, что ты придаешь такое значение этому буфетному романчику…
Я посмотрел на него. Он вскочил и побежал от меня, натыкаясь на стулья и на ходу опрокидывая их и ударяясь о косяки столов. Из дальнего угла он закричал, выставив руки, обороняясь:
— Не смей! — кричал он. — Опомнись! Ты что? Успокойся!
Он был белый как мел. Я отошел к окну и покурил немного. Постепенно сердце перестало стучать, кровь отлила от головы. В окно был виден наш старый бульвар и старое корявое дерево, к которому три года назад вышла ко мне на первое свидание Тая. Тогда шел снег, тяжелый и холодный, а мне было жарко, и мы с Таей шли с непокрытыми головами и ступали по талому снегу, не разбирая, где посуше, и она все смеялась: «Как маленькие».
Я прокашлялся и обернулся, нужно было продолжать разговор. Алексей Семеныч сидел за столом и строчил. Видно, и он тоже поуспокоился. Я пошел к нему. Он сказал, не подымая головы:
— Честное слово, думал, что убьешь. Делай как знаешь. На тебе приказ. Иди к Башковичу. Я сказал:
— Спасибо. Будь здоров.
Он ответил:
— Приезжай в другой раз, Коля, мы тебе напишем.
Я вышел в приемную. Секретарша сидела за столом тише воды, ниже травы. Теперь она убедилась, что я бандит. Я взял трубку и соединился с Башковичем, и прочитал ему по телефону приказ Алексея. Он выслушал и, как всегда, ничему не удивляясь, ответил вежливо и спокойно, тщательно выговаривая все буквы в моем имени-отчестве:
— Все будет сделано, Николай Иванович. Билет я вам вручу лично.
Я оставил приказ секретарше и попросил ее сделать копию для меня. Она кивнула головой. Я думаю, она боялась меня. Я поклонился ей и пошел из управления, пошел по крутой лесенке вниз, повернул в дверь налево и вошел в цирк. Хорошо, что я уеду. Здесь я бы не смог. Здесь все для меня погибло. Я пошел направо. С манежа доносилась затейливая, кудрявая музыка, барабан лупил вовсю. Шел детский утренник. Я прошел мимо буфета и встал у бокового прохода. Старая капельдинерша приготовилась открыть мне красную бархатную шторку, она думала, что я хочу пройти на места. Но я остался здесь. Музыка перешла на галоп. Потом наступила пауза. Сердце мое билось. Прошла секунда, и свежий, весенний, все оживляющий дождь пролился на меня: я услыхал спасительный плеск детских ладош.