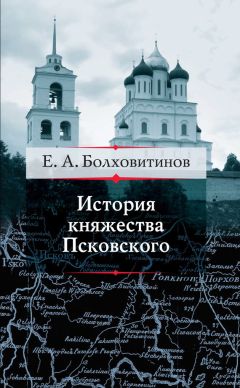— А тебе жалко? Не у тебя прошу!
— Иди, иди, девочка! — кричал кондуктор.
Иван Архипович загляделся на маленькую нищенку. Косичка у нее жалко болталась на спине, из коротких рукавов заплатанного пальтишка, как восковая свечка, торчала только одна худенькая ручонка — другой рукав болтался на обрубке руки.
— Девочка! — крикнул Чугунов, — девочка!
Она пугливо втянула в плечи маленькую головку в большом нависшем платке, но оглянулась. Чугунов узнал в ней нищенку, которую видел в больнице. Она подошла к нему с протянутой рукой. Иван Архипович схватил ее ручонку.
— Ты помнишь, я в больницу к тебе приходил?
Она, вспоминая, кивнула головой, но промолчала.
— Разве тебя уже выпустили из больницы?
— А чего ж? Я — здоровая!
— А рука?
— А что рука? Нету руки.
— И опять по вагонам ходишь?
— А что ж не ходить. Не маленькая я, даром кормить не будут.
Чугунов решительно взял ее за руку:
— Пойдем, я тебя даром покормлю. Пойдем к нам.
Ему пришлось уговаривать ее очень долго. Только напуганная полившим дождем, решилась она войти с ним в трамвай.
Более же всего ее соблазнило обещание Чугунова, дать какие-нибудь башмаки на ее босые ноги.
— Смотри, — проворчала она, когда вагон тронулся, — ты башмаки обещал!
— Получишь! — подтвердил Чугунов.
Долго девочка стояла в проходе, покачиваясь и вздрагивая, цепляясь ручонкой за спинку скамейки и каждый раз, когда кондуктор кричал: «граждане, получайте билеты!» — она пугливо втягивала голову в плечи, прикрываясь сползавшим на лоб платком.
И Иван Архипович должен был успокоительно махать перед ней билетами.
Дама с накрашенными губами, о пальто которой толкалась нищенка, брезгливо поднялась и отошла подальше. Девочка не посмела сесть. Иван Архипович не успел показать ей на место, как против нее уселся сытый человек в широчайшем пальто. Он жевал бритыми губами ягодки винограда, вытягивая их пухлыми пальцами из пакета, и рассматривал девочку, как самое наизаконнейшее явление в природе.
Иван Архипович вышел из вагона вслед за нищенкой с душой, распухшей от тоски, как улицы от дождя и тумана.
— Башмаки-то дашь? — еще раз повторила девочка, останавливаясь в раздумье, — или нет?
— Сказал, что дам.
— Ну, пойдем!
Иван Архипович ласково наклонился к ней.
— Я постараюсь тебя в приют устроить…
— А я не пойду туды! — отрезала девочка.
— Почему?
— Так.
По сжавшимся обидчиво губам ее видно было, что она знает много, но не желает отвечать. Иван Архипович пожал плечами:
— Как хочешь…
И нищенка спокойно продолжала шлепать босыми ногами по жидкой грязи возле него.
Глава пятая
Камень на дороге
В приюте очнулся Пыляй только вечером, лежа на койке у окна, под теплым, мягким одеялом.
До того же он сам себя не чувствовал. Он похож был на неуклюжую деревянную чушку, всунутую в токарный станок, вытачивавший с молниеносной быстротой глянцевитую, узорчатую игрушку. Втолкнутый руками милиционера за двери огромного здания с красной вывеской, которой он не успел даже прочесть, он стал переходить из рук в руки, из комнаты в комнату, с этажа на этаж с какой-то машинной быстротой. Его стригли, мыли, одевали, обували, расспрашивали, кормили, поили, знакомили с товарищами, показывали комнаты, классы, мастерские, спальную, столовую и перед тем, как уложить спать, заставили посмотреться в зеркало. Он смотрел на себя, ощупывал себя, щипал нос, дергал уши, гладил выстриженную наголо, круглую, как шар, голову и чувствовал себя так же, как чувствовала вероятно, если бы могла, деревянная чушка, выскочившая из станка в виде нарядной, гладенькой, раскрашенной куклы. И весь этот дом, огромный, благоустроенный, шумный и суетливый казался ему похожим на прекрасную машину, вытачивающую настоящих людей из тех бродяг и оборванцев, которых вталкивают сюда руки милиционеров.
И все эти серьезные, задумчивые люди, направлявшие живой поток маленьких людей, были похожи на мастеров своего дела, отлично знавших свойства поступавшего к ним в руки материала и все возможности огромной машины, которой они распоряжались.
Высокий, худой человек, расспрашивавший Пыляя, помедлил несколько минут с решением участи нового мальчика и спросил:
— Чем бы ты хотел быть?
Спрашивая, он был похож на токарного мастера, оглядывавшего дерево, с тем чтобы решить, на что оно более всего пригодно в работе.
Пыляй ответил, не задумываясь:
— Сапожником!
— Почему? — улыбнулся тот.
— Они зарабатывают много денег!
Мастер улыбаясь кивнул головой и проводил Пыляя в сапожную мастерскую.
— Вот вам прирожденный сапожник, — сказал он, представляя Пыляя руководителю мастерской, — сам изъявляет желание стать сапожником. Вероятно, с ним не будет вам много возни, Фаддей Федорович!
В мастерской десятка два стриженых голов торчало над низеньким верстачком, усыпанным инструментами, обрезками, гвоздями и всяким мусором. Пыляю дали место, дали время оглядеться. Когда вытаращенныё от любопытства округлившиеся глаза его насытились, наконец, до усталости зрелищем, Фаддей Федорович всунул ему в руки колодку с натянутым на ней башмаком и стал учить, как вбиваются шпильки.
Урок был не велик и не труден, но руки у Пыляя дрожали, колени сжимали колодку нетвердо, молоток срывался, шпильки кривились и ученику оставалось только дивиться терпеливому учителю, показывавшему снова и снова.
Несколько раз, закрывая глаза и закусывая губы, ожидал на свою голову Пыляй если не удара колодкой, то хоть брани и крика, но все обходилось благополучно и даже, когда соскользнувший по мокрой коже молоток вышиб шпильку так, что она отлетела в сторону и впилась в глаз соседу, не поднялось ни шуму, ни драки.
— Действительно, что тесно у нас! — заметил Фаддей Федорович и, осмотрев неповрежденный глаз мальчугана, вернулся к Пыляю, — шпильку надо загонять одним ударом, вдруг. Иначе она не взойдет, или плохо взойдет. Ну-ка, гляди!
Пыляй глядел, дивясь ловкости рук мастера, пытался сам и когда, наконец, шпилька вошла, не хуже, чем у того, он улыбнулся и вздохнул с облегчением: тайна мастерства была не сложнее тайны дерзкой девчонки, открывшей ему секрет двух палочек с перекладиной.
Ночами, лежа в постели и долго не засыпая от усталости, а может быть и оттого, что была под ним постель, а не камни, вспоминал он о короткой своей дружбе с пленницей, которую сторожил.
— Теперь бы я тебе показал… — думал он и хоть едва ли сказал бы он точно, что именно мог ей показать, каким своим превосходством ее устыдить, он чувствовал неизменно что как-нибудь это случилось бы.
Он выбрал сам свой путь, он ощущал твердую почву под своими ногами и стоял крепко. Правда, ему иногда хотелось выскочить в окно и уйти, чтобы спать на камнях, прятаться в каменных щелях китайской стены или лежать на зубцах ее, подставляя лицо, грудь, все тело палящему солнцу, но желания эти были мимолетны, как воспоминания о прошлом. Вместе с прошлым, они тускнели, становились все менее и менее стойкими и забывались за работой легко.
— Убигешь? — спросил его один из товарищей, как о деле простом и не очень любопытном, когда он заглядывал как-то в окно, — тут можно.
Пыляй подумал, примерился, сказал твердо:
— Незачем мне убегать!
— На воле-то веселее!
— Кому как.
Мальчишка помолчал, потом кивнул головой, соглашаясь:
— Которые и тут достают!
— Чего это?
— Понюхать. Тут можно тоже за деньги!
— Мне не надо!
Собеседник его посмотрел на него без всякого уважения и отошел, как от пустого места. Пыляй, не желавший бежать, не интересовавшийся понюхать, перестал его занимать.
Обряженному в чистое белье, новую куртку и штаны с совершенно целыми карманами оборванцу не хотелось по своей воле переряжаться в лохмотья, дыры и грязь. Две недели он отравлялся сладчайшим ядом приобретаемых знаний, две недели ходил он в угаре постоянной сытости, тепла, света и чистоты. И тонким ядом другой жизни был он отравлен прочнее и глубже, чем Коська кокаином. Он переполнен был ощущением своего человеческого достоинства. Родившийся в нем на крыльце булочной, под впервые разобранной вывеской, гражданин своей страны, вырастал в нем с неимоверной быстротой.
Он постигал мудрость жизненного мастерства с неменьшим успехом, чем приемы мастерства сапожного, и если его иногда манила к себе воля, то только для того, чтобы как-то столкнуться с девчонкой и ошеломить ее своим новым видом.
— Без тебя обошелся! Вот что!
Он представлял себе встречу с девчонкой, как в зеркале встречу с самим собой.
Он уже начинал думать об этом далеком дне, который расплывался в туманной дали, как вдруг все перевернулось.